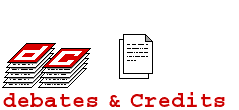|
| Медиатьма |
| Размышления о публичном пространстве, свете и конфликте |
|
Размышления о публичном пространстве, свете и
конфликте
Оливер Маршар
Существует непоколебимая вера в то, что все средства
массовой информации, так или иначе, порождают или
формируют публичность. Несмотря на общее мнение о
том, что не любая публичная сфера является средством
коммуникации, многие склонны думать, что любое
средство коммуникации формирует публичную сферу, в
последнее время чаще всего имея в виду, конечно,
Интернет. Обосновано ли это требование к
общественным качествам медиа, даже при их
сегодняшней гегемонии? Чтобы убедиться в обратном,
достаточно провести простой эксперимент: попробуйте
попасть на ваш основной государственный канал.
Скорее всего, вам не удастся даже войти в здание.
Другой эксперимент: попробуйте опубликовать свое
мнение по какому-либо политическому вопросу в
крупной (или не столь крупной) национальной (или не
очень) газете. В ситуации с телекомпанией вы,
вероятнее всего, обречены на поражение, разве что вы
сам Руперт Мердок. В противном случае, будет удачей,
если вас пустят на парковку. В редакции газеты
результат будет не лучше, конечно, если вы не Юрген
Хабермас. Если доступ к публичной сфере должен
иметь каждый (иначе какой смысл в ее существовании),
непонятно, на каком основании телеканалу или
изданию может быть присвоен титул «общественного»?
Значит, сам по себе факт наименования «медиа» совсем
не является достаточным основанием для заключения о
том, что они формируют или порождают нечто,
относимое к публичной сфере.
|
Однако, если говорить о публичности, доступность -
лишь одна из категорий. Одной ее не может быть
достаточно, и в этом легко убедиться на примере
множества общественных мест, которые остаются
доступными, однако, ничего важного там не
происходит. Вход в универмаг открыт даже для тех,
кто ничего не покупает, однако, поскольку туда
приходят только за покупками, он не становится
публичным пространством, а остается просто
магазином. Конечно, в связи с приватизацией бывших
«общественных» зон, например, трамвайных остановок
или пешеходных зон, попасть во многие места
становится все труднее, они перестают быть даже
физически доступны (вспомните о распространенной в
некоторых городах нелицеприятной практике
выдворения бомжей из центра города на окраины).
Очевидно, что доступность сама по себе не является
достаточным критерием, это только один из критериев,
или, лучше сказать, предварительный критерий:
пространство всеобщего доступа, где при этом не
происходит ничего важного, с политической точки
зрения, не является публичным пространством. Нужны
дополнительные критерии. Что делает публичную
сферу таковой? В дальнейшем, мной будет предложен
такой критерий, как свет конфликта. В некотором
смысле, я продолжу мысль, высказанную Ханной
Арендт. Конечно, в моем прочтении теория Арендт
подвергнется трансмутации и расширению, возможно,
даже радикализации, и, скорее всего, не будет
относиться к другим аспектам ее теории. Поскольку в
данной ситуации у нас нет возможности развить
критический углубленный анализ ее теории, мы тем не
менее можем обратиться к ее работе как набору
теоретических инструментов. Мы выберем из этого
набора свет и конфликт.
Свет конфликта
Для Арендт, публичная сфера- это пространство
появления. Любой, выходя на публику, представляет
себя и появляется перед другими. Пересекая эту
границу, покидая приватный мир и вступая, пользуясь
типичной для Арендт формулировкой, в свет
публичности, он становится заметным. Если частная
сфера- темнота или сумерки, то публичное
пространство, напротив, сияет всеми цветами радуги.
Однако, попадая в зону видимости, человек
одновременно становится уязвимым. Публичная само-
демонстрация связана с риском, так как нет гарантии,
что свет публичности не ослепит его. Политика -
рискованное занятие, а выход из частной сферы
невидимого требует мужества. Конечно, Арендт
страшится того, что границы между частным и
общественным полностью исчезнут в современном
мире. Исторически, размывание границ между «тенью»
частного и «сиянием» публичного продиктовано
развитием общества, и в моменты пессимизма Арендт
пишет о том, что глобальные «сумерки» опустились не
только на частную сферу, но и на все общество, так что
при отсутствии границы между частным и
общественным все явления окрашены серым на сером:
«Появление общества - подьем домавладения и
связанных с ним занятий, проблем и средств
организации – с переходом из затемненного
пространства дома в свете публичности не только
размыло старую границу между частным и
политическим, но также почти до неузнаваемости
изменило значение этих двух терминов, а также их
роль в жизни индивида и гражданина.»(1) Если в
Древней Греции между домашней и общественной
жизнью пролегала пропасть, которую человек каждый
раз преодолевал, чтобы «взойти» в царство политики, а
в средние века эта пропасть сохранялась в виде
(неполитической) «границы между темнотой
повседневности и роскошью, великолепием всего, что
считалось святым» (2) , то на современном этапе
развития общества этот пропасть исчезла, свет и тьма
смешались.
Мы не будем обсуждать здесь, права ли Арендт с
исторической точки зрений, и является ли ее картина
древней демократии исторически достоверной. Для
наших целей нужна лишь созданная ею модель
публичной сферы. В работах Арендт, публичная сфера
предстает в виде арены или театральной сцены. Для
актеров на сцене находиться в центре внимания -
приятное и одновременно требующее мужества
занятие. В актерской игре, как и в политике, у человека
может вдруг начаться боязнь сцены; как только он
всходит на нее, на него немедленно направляют
беспощадный свет прожекторов. Но каков источник
этого света? Чем опасна публичная видимость?
Арендт отвечает на этот вопрос так: сфере публичности
присущ «яростный дух агонии», что-то вроде
постоянного конфликта, «где каждый должен
постоянно бороться за то, чтобы отличаться от других».
(3) Таким образом, у истоков света лежит конфликт:
агонизм (термин автора - прим. перев.)
Для Арендт агонизм – нечто чисто индивидуальное,
несмотря на то, что оно является общим для всех: «это
единственное место, где люди могли показать, кто они
на самом деле и насколько они незаменимы».(4) Такой
агонизм индивидуального не соответствует нашему
представлению о политике как о чем-то заведомо
коллективном. Поэтому, понятие антагонизма в
трактовке Лаклау и Муффе гораздо больше подойдет
нам для описания реальной работы политического
механизма: он действует на основе
противопоставления «нас» «им». Коллективная
идентичность формируется только по отношению к
чему-то внешнему. Арендт соглашается с тем, что люди
действуют вместе, что они действуют в согласии,
однако она недооценивает тот факт, до какой степени
они действуют против других людей, для того, чтобы
собраться вместе и создать собственный коллектив.
Таким образом, имеет смысл использовать антагонизм,
а не агонизм, в качестве основного критерия отличия
публичной сферы. Общим для двух терминов является
заключенный в них элемент конфликта. Однако,
антагонизм выставляет все в более резком
конфликтном свете, чем агонизм, который, согласно
Арендт, больше связан с персональным тщеславием,
нежели с лишенным индивидуальности построением
коллективных идентичностей. Поэтому мы можем
установить, что антагонизм – это, скорее,
первоначальная категория, из которой происходит
агонизм. (Агонизм же, в свою очередь, не более чем
вторичная, сублимированная форма антагонизма).
Итак, антагонизм- непременное условие политики. Из
этого следует, совсем не в духе Арендт, вывод о том,
что никакая политика не существует без исключения и
вражды.
Однако, то, что каждое действие-в согласии является,
одновременно, действием-в-конфликте, не
подразумевает того, что любой политический акт
должен непременно приводить к бунту или
гражданской войне. Напротив, политологи
современности, такие как Шанталь Муффе, Норберто
Боббио, Уилльям Коннолли и Ульрих Дюбиль, стремятся
поддерживать, до определенной степени, различие
между антагонизмом и агонизмом как различие, говоря
словами Муффе, между врагом и соперником.(5)
Агонизм, по их мнению, есть одомашненная форма
антагонизма. Здесь необходимо подчеркнуть, в чем, в
сущности, скрепляющая сила конфликта - узел
конфликта: Поскольку я понимаю, что моя
идентичность зависит от той, которая мною отвергается
(моего врага), она строится, в первую очередь, на этом
отрицании; минимальный символический шаг к
признанию возникает как продукт рефлексии: Враг
(которого необходимо уничтожить) превращается в
соперника (которого можно отчасти принять).
Конечно, всегда существует и другой выбор: я могу
пересмотреть союз, разорвать его и уничтожить врага.
Тогда мое решение будет авторитарным или
тоталитарным. Оно может быть признано тоталитарным
не из-за прискорбной участи врага, а по более
глубоким, структурным причинам: вместе с врагом
исчезает как узел конфликта, так и конфликт как
таковой. Что происходит в обществе без конфликтов, и
не это ли идеал тоталитарных режимов?
Прежде чем перейти к вопросу о том, как применить
утверждения Арендт к нашей сегодняшней непростой
ситуации, я хотел бы добавить одно общее
наблюдение. Конечно, можно критиковать Арендт с
точки зрения лозунга «Личное является политическим».
Определенно справедливо то, что «более яркий свет»
политического (публичной сферы) онтологически
предшествует темному пространству частного. Однако,
по той же причине последнее никогда не погружается в
полную тьму. Это скорее, как иногда пишет Арендт,
«сумеречное пространство», куда сквозь окна
периодически проникают лучи публичного света.
Арендт: «Поскольку наше чувство реальности зависит
от внешних проявлений и, таким образом, от
существования публичной сферы, в которую все
приходит из темноты скрытого существования, даже
свет сумерек, освещающий нашу личную и интимную
жизнь, возникает из более яркого света общественной
жизни».(6) Если мы переведем (и таким образом
подвергнем трансмутации) это суждение на наш
собственный язык, мы можем сказать, что политическая
жизнь - сфера агонистического конфликта - никогда не
уйдет совсем из мира «частного» и социального, так
как лежит в самой их основе. Поскольку все социальные
отношения в прошлом базировались на
непредсказуемых политических решениях, это
политическое прошлое можно реактивировать в любой
момент (7) . Итак, свет антагонизма сияет сквозь
временно устаканившуюся взвесь социального. В любой
момент может появиться яркий и резкий луч света,
который разрушит кьяроскуро частного.
Сумерки Базара
Теперь, когда мы определили, что публичность – это та
самая сфера, из которой проистекает свет конфликтов
именно, мы можем вернуться к нашей теперешней
ситуации и заключить, что мы живем скорее в «Темные
времена». Не потому, что в истории разворачивается
глобальная катастрофа, а просто потому, что свет
конфликта мерцает. Каков источник этого «мерцания»?
Его можно отследить по двум, на первый взгляд,
противоположным тенденциям. С одной стороны,
сегодня мы должны противостоять социальной
тенденции к изгнанию конфликтных форм
взаимодействия из общественной жизни. Налицо
непоколебимое доверие к «экспертократии» и
корпоративным формам скрытых переговоров и
обсуждений интересов, противостоящие открытым
конфликтным публичным дебатам. С другой стороны,
мы становимся свидетелями роста политических сил,
стремящихся превратить соперника обратно во врага. В
данном случае, мы говорим о популистском ультра-
правом движении, которое взяло на себя историческую
роль возвращения конфликта в публичную сферу, но на
этот раз не в виде распространяемого
демократическим путем агонизма, а в форме чистого
антагонизма. Перед тем как обратиться к первой
проблеме - «экспертократии» и неокорпоративизму,
давайте обсудим сегодняшний феномен ультра-
правых.(8)
С тех пор как в 2000 году страдающей ксенофобией
Партии Свободы было разрешено ее партнером по
каолиции – консервативной Народной партией - войти
в состав правительства Австрии, консерваторы во всей
Европе, за исключением Франции, начали формировать
коалиции (иногда краткосрочные, иногда
долговременные) с ультра-правыми. Только несколько
примеров. В 2001-м году Берлускони, Фини и Босси
вернулись к власти в Италии, а консерваторы в Дании
пришли к власти при поддержке ультра-правой
Народной партии. В 2002-м Жан-Мари Ле Пен дошел
до второго тура президентских выборов во Франции, в
Португалии консерваторы образовали коалицию с
правой Parti Popular, а в Голландии довольно недолго
просуществовала коалиция между консерваторами и
сторонниками Пима Фортейна. Этому масштабному
нашествию отличающихся ксенофобией и расизмом
движений на правительственном уровне предшествовал
их успех на выборах и относительная популярность во
всей Европе. Расцвет этих движений,
сопровождающийся распадом социал-демократической
гегемонии, произошел на фоне послевоенного
корпоративистского (или пост-фордистского)
компромисса. Из последнего можно сделать вывод о
том, как решались проблемы конфликтов и интересов в
послевоенной Европе. В основном, этот процесс
характеризуется трехсторонним компромиссом между
интересами государства, труда и капитала. Открытый
общественный конфликт успешно вытеснен
институционализированными формами сделок между
этими тремя силами.
Таким образом, обнаруживается внутренняя связь
между подъемом сил, желающих «уничтожить» своих
врагов - мигрантов, беженцев, представителей
меньшинств, политических оппонентов, и
институционализированным исключением конфликта из
публичной сферы. Или, говоря словами Шанталя
Муффе:
Слишком сильный упор на достижение консенсуса, в
сочетании с отказом от конфронтации, приводит к
апатии и незаинтересованности в политической жизни.
Хуже того, это может привести к резкому усилению
антагонизма, неподвластного демократическому
контролю. Поэтому бурное демократическое развитие
требует реальных дискуссий о возможных
альтернативах. Другими словами, там, где необходим
консенсус, он должен сопровождаться несогласием.(9)
Вместе с ультра-правыми антагонизм возвращается,
чтобы отомстить. Однако когда он радикализован,
связь, построенная на отношениях конфликта,
распадается. Таким образом, возникает совершенно
успокоенное (или «тоталитарное») общество -
парадоксально, но ведь это мечта тех самых правых,
которые пытаются вернуть антагонизм в игру.
Я бы назвал нео-корпоративисткую логику сделок,
которая служит исторической предпосылкой
антагонизма, логикой Базара.(10) Очевидно, что Базар
- не частное, но и не публичное, в радикальном
смысле, место. Это дефектная форма публичного, где
частные (т.е. не общие) интересы отстаиваются
непубличными способами. В отличии от ряда версий
агоры, Базар не возникает из множества столкновений
конфликтующих между собой мнений. И в противовес
определенным версиям форуау, различные интересы
не обсуждаются там in foro, а остаются скрытыми и
даже спрятанными. Итак, Базар - это непубличная
публичность. Его суть состоит не в конфликтных
дебатах о всеобщем благе (то есть о различных
вариантах всеобщего блага), а в переговорах о частной
выгоде. Это место не для политики, а для «политики
особых интересов». Однако, Базар не совсем не
публичное место. В нем есть элемент конфликта, почва
для конфликта, даже в самом процессе заключения
торговой сделки. Таким образом, Базар образует
сумеречную зону, традиционное место встречи
интересов и групп влияния, где они могут обсудить
свои дела в относительной темноте. Он никогда не
стремится в центр, а напротив, хочет избежать яркого
света публичности. Он всегда прячется, всегда смещен
и прилегает к форуму как к пространству видимости.
Поэтому, не стоит удивляться, что сейчас Базар
географически локализуется в двух местах, в названии
которых обозначена их прилегающая позиция по
отношению как к центру власти, так и к центру
видимости: «приемная» и «кулуары». Приемная -
комната перед офисом, где принимаются решения. В
эту комнату мы входим перед тем, как получить доступ
к центру власти. Там мы ходим из угла в угол, ожидая,
когда министр или кто бы то ни был покинет свой офис
- и в этот самый момент нужно завладеть его
вниманием, убедить его (или иногда ее) в чем-то или
даже заставить, пока он спешит на следующую встречу.
Не удивительно, что местом для лоббирования является
именно приемная (англ. lobby - прим. перев.).
(Немецкий глагол ‘antichambrieren’ также очень хорошо
передает процесс лоббирования). Другим таким
местом, конечно, являются «кулуары». Это
пространство прилегает к пространству власти и
одновременно скрыто от общественного внимания-
даже в большей степени, нежели приемная. В любой
столице, включая такие международные столицы, как
Брюссель, полно таких пространств. Для их
существования необходимо, чтобы они оставались
скрытыми от общественного внимания - от света
публичности. И хотя, конечно, кулуарное пространство
не всегда становится местом теневых переговоров, оно
всегда может стать местом политической конспирации.
Но пока такая конспирация остается в тени - а в самой
сути конспирации заложено, что она не может
существовать in for o- кулуары продолжают быть
кулуарами и не превращаются в форум.
Эти размышления приводят нас к кантовской трактовке
публичности (Publizität). Согласно этой трактовке, мы
можем, наряду с доступностью и конфликтностью,
ввести третий критерий публичной сферы (который,
однако, впоследствии может оказаться еще одним
аспектом конфликтности). Следуя Канту и в то же время
осовременивая его, мы утверждаем, что о
«публичности» можно говорить только тогда, когда
решения достигаются открыто. Другими словами, как
механизмы принятия решений, так и его результаты
должны быть видимыми и прозрачными. Однако,
поскольку решения являются результатом открытых
дебатов, а не секретных переговоров, этот критерий
подразумевает, что там, где есть прозрачность, есть и
конфликт. И наконец, четвертый критерий- кроме
доступности, конфликтности и прозрачности-
проистекает из наших размышлений о Базаре: это
момент всеобщности. Соотнести этот критерий с
традиционной политической теорией можно
следующим образом: Общественные конфликты
происходят вокруг общего блага, а не частных
интересов. В нео-корпоративитстской системе этот
аспект уходит на второй план, так как в ней, прежде
всего, корпоративные интересы - то есть интересы
отдельных социальных групп - принимаются как
должное и считаются легитимными. Исходя из этого,
неокорпоративизм - это полностью а-политичная
форма ведения сделок. С другой стороны, с точки
зрения Антонио Грамши, политика возникает тогда,
когда корпоративное разделение нарушается, а узкие
частные интересы соединяются в общем проекте. Без
универсального или общего элемента нет политики.
Однако, именно потому, что в современных условиях
остается непонятным, что такое это всеобщее благо, и у
нас нет четкого представления о нем (т.е. о том, какой
должна быть «хорошая жизнь», и как должно быть
организовано «благополучное общество»), попытки
определить это обязательно будут продолжатся.
Произойдет конфликт вокруг всеобщего блага.
Медиатьма
Итак, мы выделили четыре критерия публичности:
доступность, конфликтность, видимость и всеобщность.
Я уже указал на возможность того, что конфликтность
первична по отношению к другим критериям, но в
отсутствие в данном случае пространства для развития
аргументации этой мысли, я хотел бы оставить ее в
виде намека и перейти к роли медиа. До какой степени
медиа соответствуют вышеупомянутым критериям? В
случае средств массовой информации, критерий
доступности не выполняется. С этой точки зрения, их
даже нельзя назвать «ограниченными» публичными
пространствами, так как доступ к ним не просто
ограничен, а полностью закрыт. Выразить свои
политические взгляды можно только через «письмо
редактору», которое подвергается тщательной цензуре.
И хотя для кого-то такая возможность также
существует в виде ток-шоу, он должен заплатить за это
собственным эксгибиционизмом. Это скорее
выставление себя напоказ, а не доступ к публичной
сфере - и при этом единственная возможность для
социальных меньшинств хотя бы на несколько минут
завладеть минимальной долей общественного
внимания и признания. Может быть, я покажусь резким,
если скажу, что ток-шоу, не столько построены по
принципу публичной сферы или Базара, сколько являют
собой на самом деле модель зоопарка, и возможно
должны рассматриваться с пост-колониальной точки
зрения как далекий отголосок спектаклей, в которых
«экзотических дикарей» выставляли напоказ для
европейской публики.(11)
Ток-шоу служат хорошей иллюстрацией того, как
конфликтность полностью исключается из ситуации, в
которой она вроде бы провозглашается. Дебаты в
рамках ток-шоу, например, между гостями и
аудиторией, только на первый взгляд содержат
конфликт. На самом деле, это хорошо поставленная,
отрепетированная и много раз проигранная
мелодрама. Настоящий конфликт, при этом, согласно
сценарию или «формуле успеха» этого телефизионного
формата, на сцене появляться не может. Еще больше
удручает тот факт, что то же самое можно сказать и о
политических дебатах в средствах массовой
информации. Они тоже развиваются по сценарию и
поставлены по правилам, отработанным тысячу раз.
Например, всегда приглашается представитель левых и
представитель правых сил, а сам телеканал выступает в
роли беспристрастного арбитра, однако всегда
мистическим образом «незримая рука» заботится о том,
чтобы правый оказался гораздо более правым, чем
левый левым. При ближайшем рассмотрении, от
нейтральности сценария не остается и следа, а
конфликт между оппонентами оказывется
искусственным и ассиметричным.(12) Если свет
публичности ассоциируется с конфликтом, тогда медиа
- достаточно темное место.
Третий критерий видимости или публичности (в
кантианском понимании) связан с первым критерием
доступности: чтобы стать видимым, необходимо
сначала получить доступ. Однако, публичность означает
нечто большее: она указывает на необходимость
прозрачности корпоративных интересов и процессов
принятия решений, которые, в противном случае,
остались бы скрытыми. С этой точки зрения, становится
очевидно, что одной из задач средств массовой
информации как раз и является держать их в тайне.
Возьмем, к примеру, телевизионные выпуски новостей:
с них в качестве политической информации показаны
непрекращающиеся рукопожатия глав государств,
премьер-министров и других политиков. Такие
репортажи обычно называют «семейными
фотографиями» международных встреч Европейского
Союза или Большой Восьмерки. В них мы не видим
ничего, кроме существования как такового политиков -
мы знали бы о нем, даже если б не видели их - в то
время как заглянуть в кулуары, где происходят
реальные переговоры и принимаются решения, нам не
разрешается. Можно предположить, что это происходит
потому, что аспект всеобщности, наш четвертый
критерий, отсутствует в таких переговорах, так как они
исходят из корпоративных, узких интересов, а не из
всеобщего блага.
Под «всеобщим благом» я, опять-таки, не обязательно
понимаю нечто рыцарское. Отказ от собственных
особых интересов не считается «благим делом» в
христианском понимании самости. Понятие «всеобщего
блага» формирует политическую логику как таковую:
чтобы главенствовать в определенной области, некая
сила должна универсализироваться; она должна
присоединить к себе другие силы, отбросив, при этом,
в сторону часть своего идеологического багажа.
Всеобщее благо - еще одно пустое универсальное
понятие, которое всегда – но только временно -
берется на вооружение различными политическими
альянсами. Сегодняшние средства массовой
информации, в противоположность своему названию,
занимаются тем, что делят массы на отдельные
компоненты. Политические противостояния они
представляют как личные проблемы. Позвольте еще раз
обратиться к примеру ток-шоу. То, что критический
наблюдатель принял бы за формы дискриминации и
подавления на основе расовых, классовых и гендерных
различий, подается нам как простое расхождение во
мнениях или вопрос индивидуальных предпочтений.
Например, одна из обычных для ток-шоу тем: «Мой
муж-лентяй не хочет даже искать работу». Даже если
проблема безработицы, лежащая в основе этой темы, и
попадет в обсуждение (а скорее всего, даже не
попадет) в рамках ток-шоу, она не будет представлена
как общая, а напротив, будет предельно
индивидуализирована. Таким образом, проблема,
затрагивающая всеобщность, представлена как частная.
Из этого следует, что медиа - как идеологический
аппарат - стремятся, независимо от содержания
существующей идеологии, выполнять саму ее функцию:
функцию деполитизации. Как только все конфликты
будут идеологически снижены до проблем
индивидуального, корпоративного и частного уровня,
они больше не смогут объединиться в коллективную
волю. Отказав конфликтам в пространстве проявления,
и эффективно упраздняя несогласие и противостояние,
средства массовой информации деполитизируют
общественность. Если публичное пространство -
царство света, медиа порождают царство тьмы.
Очевидно, что наши четыре критерия не привязаны к
определенным местам в социальной топографии. Не
привязаны они и к масс-медиа, хотя нет ни одного
места, которое было бы a priori публичным, так как
конфликт в обществе может возникнуть где угодно. Все
в обществе может превратиться в источник и
пространство конфликта: даже супермаркет, даже
телеканал, даже - что за экстравагантная идея -
парламент. Самые темные «кулуары» могут
превратиться в публичное пространство, как только
распахнут свои двери и свет конфликта проникнет
туда. Однако, если явление публичности- это процесс,
не привязанный к определенному месту и способный
возникать (и исчезать) везде, где есть место открытому
конфликту, как можно придать ему стабильность?
Можно ли добиться неизменности и
институциализировать то, что по определению избегает
всех институциональных стабилизаций? Существует
ли институциализированная публичность? Это то самое,
чем пытаются представить себя медиа, однако сами они
не соответствуют этим претензиям. Единственное
возможное решение - признать и принять это как
конститутивный парадокс. Публичная сфера не
озабочена проблемой институциональной
принадлежности, и там, где она возникает, мы
сталкиваемся с исчезновением институциональных и
географических образований. Таким образом,
публичное пространство - скорее временная, чем
пространственная категория - оно нарушает и смещает
пространство.(13) Тем не менее, мы должны создавать
институциональные предпосылки, или, по крайней
мере, благоприятные условия для доступности,
конфликтности, видимости и всеобщности - то, что
пытаются делать альтернативные медиа (от самиздата
до пиратских радиостанций и телеканалов). Тем не
менее, публичное сфера всегда останется невозможным
пространством. Пространством, где должно
стабилизироваться нечто, по своей природе
подрывающее любые формы стабильности.
Оливер Маршар, PhD, профессор, политолог и
культуролог, работает на кафедре изучения медиа в
Базельском университете.
-------
1- Hannah Arendt: The Human Condition, 2nd edition,
Chicago: University of Chicago Press 1998, p.38.
2 - Hannah Arendt, там же, p.34.
3 - Hannah Arendt, там же, p.41.
4 - Hannah Arendt, там же, p.41.
5 - Из этого становится очевидно, что Муффе
сторонник скорее шмиттовской, чем арендтовской
версии политики, так как именно Шмитт первым ввел
различие между врагом и соперником.
6 - Ханна Арендт, там же, стр.51.
7 - О диалектике между социальным застоем и
политической реактивацией см. Ernesto Laclau: New
Reflections on the Revolution of Our Time, London and
New York: Verso 1990.
8 - Более обширное исследование см.: Oliver Marchart:
‘Austrifying Europe: Ultra-Right Populism and the New
Culture of Resistance,’ in Cultural Studies 16(6) 2002,
pp.809-819, а также: Oliver Marchart: ‘The “fourth way”
of the ultra right: Austia, Europe, and the end of neo-
corporatism,’ Capital & Class 73, 2000, pp.7-14.
9 - Шантал Муффе. «Радикальный центр: Политика без
противника». Soundings 9, 1998, p.14.
10 - Здесь необходимо подчеркнуть, что метафора
«Базара» должна пониматься не в культуралистском
смысле, т.е. как феномен, принадлежащий отдельным
культурам. Под этим словом я имею в виду, сторого
говоря, некоторую универсальную логику
политического общения.
11 - Даже при том, что в европейских ток-шоу
показаны классовые, а не расовые меньшинства -
несмотря, однако, на расизм по отношению к
мигрантам.
12 - Некоторые из этих механизмов описал Бурдье в
своей книге о телевидении см. Pierre Bourdieu: Über das
Fernsehen, Frankfurt 1998.
13 - См. Оливер Маршар. «Искусство, пространство и
публичная сфера. Базовые наблюдения о непростой
связи между искусством в публичном пространстве,
урбанизмом т политической теорией.в кн.: Andreas
Lechner and Petra Maier (eds.): stadtmotiv, Vienna: Edition
Selene 1999, стр.96-156. Электронная версия текста:
http://www.eipcp.net
|
|
|
|
|
 |
|