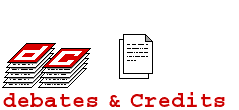|
| Жизнь и смерть советской публичности |
| Виктор Воронков |
|
Речь в этой статье пойдет о советском публичном
пространстве и его трансформации в процессе
революционных изменений в России конца ХХ века. Это
пространство имело в СССР весьма непривычный для
западного человека образ. Понимание его структуры и
логики функционирования многое может дать для
объяснения социальных процессов, происходивших в
советское и постсоветское время. Так в чем же
заключаются принципиальные особенности советской
публичности?
|
В первую очередь, хотелось бы договориться об
определении публичного пространства и его границе с
пространством приватным. Существует солидная
дискуссия по определению понятия публичности. [1]
Чаще
всего исследователи рассматривают эту сферу (вслед за
Ханной Арендт и Юргеном Хабермасом) как
пространство обсуждения (в публичных местах!)
частными гражданами каких-либо проблем вне
государства или даже против него. Понятно, что мы не
можем следовать этому подходу, поскольку выход в
публичное пространство советского человека как
человека частного сам по себе (да еще против
государства!) был практически немыслим.
Исходя из этого утверждения, я склоняюсь к
определению публичной сферы в рамках
драматургического подхода (в смысле Ирвина Гофмана
и Филиппа Арьеза), то есть как сферу социабельности,
как коммуникативного пространства в целом, за
исключением пространства приватного. Приватная
сфера в данном случае ограничивается, в основном,
семьей (некоторые пограничные случаи – дружескую
компанию, например, - Арьез относит к
«полуприватной» сфере).
Выявление границы между публичностью и
приватностью в советском обществе наталкивается на
определенные трудности. Дело в том, что когда мы
анализируем советское общество, то приходим к
выводу, что полноценной приватной сферы (в принятом
смысле) в этом обществе в течение, по крайней мере,
трех сталинских десятилетий не существовало. Исчезло
даже физическое пространство для приватной жизни
(пространство для частной жизни начало медленно
формироваться со времени строительства массового
дешевого жилья лишь в 1950-е годы). Люди в городах
жили в коммунальных квартирах и постоянно
находились под контролем. Подслушивание и
подглядывание стало обычными практиками
коммунального житья. Доноса можно было опасаться не
только от соседей, но и от членов собственной семьи.
Государство успешно индоктринировало новые
ценности в сознание, в первую очередь юного
поколения (культовая фигура пионера Павлика
Морозова символизировала превращение доноса в
геройский поступок). [2]
Господствовал усредненный стиль жизни, всякая
индивидуализация вызывала осуждение. Отсутствие
отличий в повседневной жизни («я такой же, как все»,
«не высовывайся!», «советскому человеку нечего
скрывать от своих товарищей») желательно было
постоянно демонстрировать. Не было таких сторон
частной жизни, которые не могли бы стать предметом
официального обсуждения «общественностью» с
последующим применением санкций (например,
партийное взыскание за супружескую измену). Таким
образом, граница между приватным и публичным
пространством была прозрачной. А поскольку не было
условий для приватной жизни, то и не возникало
приватных дискурсов, которые могли бы стать
альтернативными тем, которые были навязаны властью.
Любые попытки отойти от доминирующего дискурса
беспощадно преследовались. Поэтому характер
разговоров в приватной и публичной сферах мало
различался.
Чтобы лучше понять особенности советского
коммуникационного пространства, позволю себе
привлечь внимание читателя к особенностям
регулирования социальных отношений в советском
обществе вообще. Развитие этого общества создало
сложную систему писаных и неписаных правил,
отражавших параллельное существование формального
и обычного права. В сталинское время писаное право
претендовало на регулирование всех сфер
жизнедеятельности советских граждан (я не принимаю
здесь во внимание превратившиеся в особые нормы
постоянные нарушения писаных правовых норм со
стороны самого государства). Однако даже в условиях
жёстких репрессий за нарушение формальных правил
возникали и постепенно легитимизировались нормы
неписаного, обычного права, приспособленные к
реалиям советского общества.
Если анализировать поздний советский период, то
трудно не заметить, что в последние десятилетия
сфера, регулируемая неформальным правом обычая
(точнее говоря, сложившаяся на наших глазах сфера
внеправового регулирования, оформленного в виде
негласных конвенций), стала доминировать над
сферой, регулируемой писаным правом. Вообще в
последнее советское тридцатилетие возникла мощная
база для развития обычного права (развитие
неформальной экономики, семейной экономики,
активного предпринимательства, то есть всего того, что
готовило людей к реформам). Практически вся эта
сфера регулировалась обычным правом. И хотя в любом
современном обществе существует подобное
разделение правового пространства, однако
характерное для СССР длительное доминирование
права обычая привело к фундаментальным сдвигам в
общественной жизни.
Начиная с хрущёвских времён, мы могли наблюдать,
как все большая часть жизнедеятельности советских
людей стала регулироваться обычным правом. Если
говорить сегодняшним сленгом, люди жили не по
законам, а «по понятиям». Это касалось не только
повседневной жизни каждого гражданина, но и
функционирования всего государства. Например, по
некоторым оценкам, к концу существования советского
государства 2/3 всех ресурсов распределялось не по
писаным правилам (по плану), а на основе
административного торга, т.е. по сформированным в
элите неписаным правилам, которые были много
эффективнее, нежели правила писанные.
Поскольку в течение примерно двух поколений
доминирование обычного права, которое вытесняло
право писанное, становилось все более явным, то
сознание людей оказалось сильно
трансформированным. Произошли фундаментальные
изменения в общественной жизни. Возникшие в
советском обществе нормы обычного права, будучи
более эффективными, нуждались в признании
обществом. Как это не парадоксально, легитимация
обычного права поддерживала существование права
писаного, хотя нормы того и другого чаще всего были
взаимоисключающими. Писаное советское право
настолько неэффективно регулировало социальные и
экономические отношения, что государство неизбежно
вынуждено было «молчаливо» использовать
«противозаконную» инициативу отдельных граждан
для повышения эффективности этих процессов. Как
говорят, в России всегда господствовали столь жёсткие
законы, что жить при таких законах можно было лишь
при условии необязательности их исполнения.
Поскольку легитимность обеих сфер правового
пространства и существование взаимоисключающих
правил угрожали стабильности советского режима в
условиях постоянного наступления на легитимность
писаного права (оно всё более подвергалось сомнению
в обсуждениях), то возник механизм, компенсирующий
сужение пространства жизнедеятельности, которое еще
регулировалось нормами писаного права. Речь идет о
механизме замалчивания «реальной жизни» в
пространстве коммуникации, в официальной публичной
сфере этого пространства. Российский политолог Олег
Вите первым обратил внимание на эту специфику
советской публичности.
Как правило, публично обсуждать можно было в
советское время только то, что происходило в сфере,
регулируемой писаным правом. А обсуждение того, что
попадало под «право обычая», было табуировано. Пусть
большая часть жизнедеятельности общества
регулировалась обычным правом, зато в официальном
публичном пространстве дискутировалось почти
исключительно то, что попадало в сферу действия
писаных правил. Иностранный наблюдатель, знакомясь
с прессой или формально беседуя с советскими
гражданами, мог получать лишь подтверждение
пропагандистским лозунгам о замечательной жизни
советских людей. Господство идеологических клише в
публичности резко контрастировало с реальной
жизнью. Так, например, в публичной, официальной
жизни все советские люди ориентировались на
«Моральный кодекс строителя коммунизма», были
«честными». В реальной же жизни, по меткому
выражению Симона Кордонского, воровали все, а кто
не воровал, тот пользовался краденым. Публичная
версия советской действительности в глазах самих
советских людей выглядела мифом, совершенно не
согласующимся с их повседневным опытом. Однако с
«посторонними» разговаривали «как надо» и не
столько из-за страха репрессий, сколько, скорее, в
силу своеобразного молчаливого договора с
государством.
Поскольку реальную жизнь, разительно отличавшуюся
от официальных публичных представлений о ней,
невозможно было обсуждать в официальной публичной
сфере - а сама возможность обсуждения уже возникла
- то в последние три десятилетия существования
советского общества сложилась ситуация, когда стала
формироваться специфическая публичная сфера, в
которой можно было обсуждать всё или практически
всё. Это коммуникативное пространство можно было
бы назвать приватно-публичной сферой, и эта
неформальная публичная сфера «реальной жизни» была
отделена от официальной публичности ясно
выраженной границей. Ее появление явилось
следствием окончания эпохи сталинизма. Эта новая
приватно-публичная сфера, возникшая поначалу на
интеллигентских кухнях, распространялась все шире,
став существенным элементом повседневности
советского человека. Отмечу, что мы не выделяем
специально так называемое «второе общество»,
андеграунд, которые были лишь частным случаем
приватно-публичного пространства.
Приватно-публичная сфера напоминала, на первый
взгляд, ту публичную сферу, которая существует в
современном демократическом обществе, то есть сферу
частных людей, граждан, которые открыто обсуждают
действия государства, могут выступать против
государства или, по крайней мере, обсуждать
проблемы вне него. Но это была, разумеется, «другая
публичность», поскольку официальные публичные
места для ее функционирования были недоступны, а
официальные СМИ не отражали формирующихся в ней
интересов. В официальной публичной сфере, как я уже
отметил, существовала страна, живущая по писаному
праву. Из «реальной жизни» если туда и проникали
изредка отдельные проблемы, то это допускалось
исключительно под флагом борьбы с оставшимися
«кое-где еще порой» «пережитками капитализма».
Не следует думать, что приватно-публичная сфера –
поле коммуникации определенных социальных групп.
Каждый советский гражданин, – не исключая и
представителей высшей власти, - коммуницировал
попеременно в обеих публичных сферах, хорошо
понимал границу между ними и не путал
принципиально различавшихся в этих сферах правил (в
этом смысл «социальной шизофрении», которая в
публицистике часто приписывается homo sovieticus).
Одни и те же два человека по одному и тому же поводу
принципиально различным образом разговаривали
друг с другом как друзья и как «коммунист с
коммунистом».
Как граждане, так и государство, заключившие между
собой негласный договор, признавали границу между
официальной и «приватной» публичностью. В советской
истории мы наблюдаем не так много случаев, когда эта
граница сознательно нарушалась. Для примера,
позволяющего уяснить «священность» обсуждаемой
границы, можем напомнить о деятельности
диссидентов, которые попытались перенести в
официальную публичную сферу обсуждение того, что
постоянно обсуждалось в приватно-публичной сфере,
то есть того, о чём официально говорить считалось
неуместным (например, призыв «соблюдайте ваши
законы!»). Государство жестоко карало диссидентов
именно за нарушение упомянутой границы, а
подавляющая часть общества молчаливо
солидаризовалась с государством.
Здесь бы я предложил простую схему,
демонстрирующую особенности развития связи
публичной и приватной сфер в советском обществе:
После смерти Сталина в обществе произошли
качественные изменения, приведшие к
принципиальным изменениям в структуре публичного
пространства. Во-первых, КПСС, осудив культ личности
и жестокие репрессии сталинского периода, невольно
создала прецедент критики режима. Во-вторых,
ослабление репрессий снизило уровень страха, так что
обсуждение «негативных сторон жизни» становилось
постепенно делом обычным во всех слоях населения.
В-третьих, в связи с начавшимся массовым
строительством дешевого жилья в городах появились
условия для частной жизни. Люди переселялись из
многосемейных коммуналок в отдельные квартиры.
Таким образом, в 1950-х годах в российских городах
появляется физическое пространство для развития
приватности. Хотя сама приватность по-прежнему не
играла особой роли в жизни общества, однако теперь
ее граница конструируется не по отношению к
официальной публичной сфере, а отделяет ее от
«другой» публичности. Типичный пример связи этих
двух социальных пространств – так называемая
«интеллигентская кухня», где концентрировались
критические настроения по отношению к режиму и
зарождалось диссидентство.
Борьба интеллигенции в период перестройки за
постоянное расширение тематики, которую можно
было бы обсуждать в официальной публичной сфере,
привела к свободе слова и исчезновению
табуированных тем. Приватно-публичная сфера
практически исчезла. Граница пала. Пространство
коммуникации принимает постепенно привычный для
западного исследователя вид. Одновременно
повышение значимости приватной жизни привело к
формированию более жесткой границы, отделяющей
приватность от публичной сферы. Соответственно стала
более закрытой для обсуждения частная жизнь.
Хотя свобода слова в последнее десятилетие привела к
тому, что существование приватно-публичной сферы
потеряло свой смысл, однако былая граница не исчезла
из сознания людей, чья юношеская социализация
прошла в советских условиях. Поэтому до сих пор мы
встречаемся с тем, что общение с малознакомыми
людьми является для многих событием, место которого
он подсознательно относит к официальной публичной
сфере. И потому «советский человек» привычно
избирает ту систему правил коммуникации, которую он
обычно использует в публичной сфере. Эти правила
устанавливают, в первую очередь, что и как следует
обсуждать.
И дело тут не столько в табу на вербализацию
отдельных тем. Официальная публичная сфера – не
место для обсуждения «реальной жизни». Поэтому для
человека, социализированного в советском обществе,
на первый план выходит понятие «уместности/
неуместности» содержания и характера беседы.
Игнорирование этого факта в процессе общения
неизбежно ведет к созданию многочисленных мифов и
артефактов, существенно искажающих адекватность
наших представлений об обществе.
Чтобы проиллюстрировать это утверждение, я хотел бы
привести случай из собственной исследовательской
практики. Изучая несколько лет назад проблемы
российских эмигрантов в Берлине, я поддерживал
приятельские отношения с целым рядом информантов,
ожидая, когда уровень их доверия ко мне вырастет
настолько, что они мне искренне расскажут о своих
неформальных практиках выживания в эмиграции.
Зайдя как-то к такому своему информанту, я услышал
от него, что буквально на днях, к нему приходил
немецкий социолог и расспрашивал о проблемах
эмигрантской жизни. На мой нетерпеливый вопрос, что
же именно он социологу рассказал, мой собеседник
ответил: «Не волнуйся, я рассказал все так, как надо(!)».
Одним из подтверждений высказанной гипотезы о
важности различения дискурсивных правил в
официальной публичной и приватно-публичной сферах
служат сегодняшние наблюдения за представителями
постсоветского поколения (до 30-35 лет). Вторичная
социализация молодых проходила – в отличие от всех
советских поколений – уже в постсоветских условиях.
События, переживание которых сформировали их
мировоззрение и многие социальные практики, – а это
происходит в возрасте от 16 до 24 лет – совпали с
революционными событиями конца 80-х – начала 90-х
годов и последовавшей радикальной трансформацией
общества. Так вот у этого поколения крайне редко
встречается упомянутое «раздвоение личности». Здесь
мы практически не сталкиваемся с описываемым
феноменом существования дискурсивной границы.
Какие существенные изменения произошли в
российском обществе за последнее десятилетие,
исходя из перспективы функционирования публичного
пространства? Не разделяя господствующие
представления о разрушенном правовом пространстве
и «аномии», я склоняюсь к двум суждениям.
Во-первых, никакой эпохи бесправия не наступило.
Изменилось, в основном, писаное право, которое
продолжает при всем этом быть столь же
малоэффективным и малособлюдаемым как и в
советское время. Во-вторых, правила повседневности,
поведенческие практики изменились мало. Иллюзию
изменений создает тот факт, что замалчиваемое в
советское время доминирование неписаных правил,
преимущество обычного права над формальным стало
явным. И сегодня мы по-прежнему наблюдаем
противоречие обеих правовых систем. Так, например, в
случае возникновения конфликта предприниматели
апеллируют не к нормам писаного права и обращаются
не в арбитражные суды, которые не справляются со
своими функциями. Они используют значительно более
эффективный институт «авторитетных людей» (их
принято называть «бандитами»), благодаря
существованию которого можно быстро заставить
должника вернуть деньги или решить проблемы
нарушения партнерами договора. Там, где не
действуют или действуют неудовлетворительно
формальные институты, там их функции берут на себя
возникающие в связи с этим институты неформальные.
Что изменилось для гражданина (беру еще один
пример), который нуждается в кредите? Ни 20 лет
назад, ни сегодня он не мог и не может получить этот
кредит в банке (хотя именно для этого банки и
созданы). Поэтому и существует столь привычный для
нас и столь удивительный для западного наблюдателя
неформальный институт взаимокредитования граждан
друг другом (все мы брали и берем деньги в долг у
родственников, друзей и знакомых).
Сегодняшнее сближение норм писаного и обычного
права, которое в рыночном обществе должно бы
происходить достаточно быстро, наталкивается на
привычное стремление не к их сближению, а к
восстановлению status quo: должно сосуществовать и
то и другое. Для примера, я должен на родном
предприятии согласно нормам обычного права
сохранять возможности подворовывать, но в то же
время нормы писаного права должны запрещать это
делать другим или, по крайней мере, ограничивать,
чтобы люди «знали меру», как замечает тот же Олег
Вите.
Катастрофичность доминирующего дискурса о
ситуации в России связана именно с разрушением
границы в публичной сфере. Теперь нет запретов на
обсуждение «реальной жизни» в «официальной»
публичности. И этот гигантский поток новых тем,
возможных теперь для обсуждения (а ранее
допускаемых лишь в «публично-приватную» сферу),
создал представление о катастрофических изменениях.
Но изменения произошли не столько в реальной жизни,
сколько в исчезновении лакированного образа
действительности, к которому мы привыкли в
официальной советской публичности.
Иллюстрацией для этого суждения может служить
проблема «межнациональных отношений». В
официальной публичной сфере абсолютно
господствовал дискурс «дружбы народов»,
«интернационализма», «равенства всех наций». В
«реальной жизни» (в приватно-публичной сфере)
судьба гражданина была тесно связана с политикой
государства по отношению к тем или иным
«национальностям». Выгоды и невыгоды назначенной
государством национальности менялись в зависимости
от территории, исторических пертурбаций и
политического волюнтаризма. Дискриминация по
этническому происхождению была распространена
повсеместно и касалась важнейших сторон жизни –
работы, образования, свободы передвижения. Интерес
к этничности определялся господствующим в обществе
расизмом (в его современном толковании). Под
влиянием властного дискурса в сознании каждого
советского человека все «национальности» были
иерархизированы, поэтому естественно существовала и
бытовая дискриминация и ксенофобия. В публично-
приватной сфере это было активно обсуждаемо. Если
же судить по официальной публичной сфере, то
никакой ксенофобии в стране не было и в помине.
С ликвидацией границы между двумя публичностями
расизм проник в официальную публичную сферу, где
ранее не мог существовать ни как тема обсуждения, ни
как легитимная практика. Публичный дискурс об
этничности потерял свою нейтральность. Средства
массовой информации, открыто заговорили на
расистском языке, зачастую не отдавая себе в этом
отчета. «Бытовой расизм» - и ранее «неосознанно»
поддерживаемый академическим и образовательным
дискурсом, - выплеснулся на страницы газет, в
политический дискурс, стал использоваться для
обоснования дискриминационных действий,
практикуемых государственными институтами.
Хотя система (государство и экономика) колонизирует
жизненный мир человека – здесь следует сослаться на
рассуждения Ю.Хабермаса, - однако для советского
общества это влияние было не столь однозначно
именно из-за жесткого разделения двух публичных
сфер. Наблюдаемые противоречия между
представлениями официальной публичной и приватно-
публичной сфер во многом объясняются наличием у
советских людей частичного иммунитета к идеологии,
порожденного существованием упомянутой границы.
Новые же поколения безусловно станут продуктом
новой государственной системы, которая в перспективе
совпадет с «западом».
Границы публичности постоянно меняются. У
современного государства существует тенденция
захватывать все новые фрагменты приватного
пространства своих граждан и тем самым осуществлять
все более глубокую колонизацию жизненных миров
своих граждан. Оно берет на себя многие функции,
которые были прежде присущи общинам (забота о
детях и стариках, образование, жилье). Что происходит
с людьми в этой ситуации? Ранее их принадлежность к
общинным группам означала, что большая часть их
жизненных функций удовлетворялась внутри общины.
По мере передачи этих функций государству
происходит трансферт идентичности. Раньше люди
себя идентифицировали с общиной или с малой
этнической группой (советские люди – с реальной
социальной сетью, к которой они принадлежали и
которая выполняла функции самых разных институтов),
теперь же они всё больше идентифицируют себя с
государством, речь идет уже о гражданской
идентичности.
Роль публичности в этих условиях становится
исключительно важной. Мы можем наблюдать как
формирующиеся в элите дискурсы через масс-медиа и
образование индоктинируются системой. Однако в
социальном мире нет закономерностей, а есть лишь
тенденции. Тенденции же противоречивы. Заметно,
например, как недовольство государством ведет
сегодня к разрушению публичности. Граждане
перестают голосовать на выборах, участвовать в
общественной жизни, читать газеты, интересоваться
происходящим «там наверху». Элита начинает жить
своей отдельной жизнью, а «общество» находит свои
стратегии выживания, мало внимания обращая на
формальные ограничения своей деятельности и не
ориентируясь больше на поддержку государства.
Однако в любом случае можно утверждать, что
советское публичное пространство как феномен
умирает вместе с его носителями – советскими
поколениями.
Виктор Воронков – Директор Центра независимых
социологических исследований, Санкт-Петербург
1 - Дискуссия о различных подходах к понятиям
публичности/приватности изложена, например, в:
Weintraub, J. The Theory and Politics of the Public/Privat
Distinction // Public and Privat in Thought and Practice /
J.Weintraub, K.Kumar (eds.). Chicago/London: The
University of Chicago Press, 1996. P.1-41.
2 - Олег Вите замечает, что для общества, в котором
господствует писаное право, характерен донос, а для
общества, в котором господствует обычное право,
характерной является взятка (Вите О. Избиратели –
враги народа? (Размышления об адекватности
электорального поведения и факторах на ее уровень
влияющих) // Этика успеха, 9, 1996. С.58-71). Исходя
из этого утверждения, можно констатировать, что
сталинское время – период доминирования писаного
права, а начиная с хрущевских времен, - в условиях
повсеместной практики взяток, коррупции - в нашем
обществе доминирует обычное право.
3 - Вите О., там же.
4 - Я хочу обратить внимание читателя на работу
Симона Кордонского, которая объясняет, каким
образом функционировала реально власть в советском
государстве, какие процессы во власти регулировались
писаным правом, а какие обычным (Кордонский С.
Рынки власти. Административные рынки СССР и России.
Москва: О.Г.И., 2000).
|
|
|
|
|
 |
|