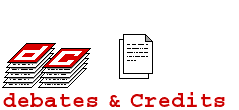|
| Minima Sententia |
| Инструментализация образа и симуляция публичной коммуникации |
|
Татьяна Горючева
Они прекрасно сознают действительное положение
дел,
но продолжают действовать так,
как если бы не отдавали себе в этом отчета.
Славой Жижек «Возвышенный объект идеологии»
|
Реальность современного человека, принадлежащего
урбанистической цивилизации, расслаивается на
несколько модусов бытия. Его пространственное
окружение пластично и динамично. Его картина мира
превращается во множественный интерфейс, где даже
личная самоидентификация начинает моделироваться
как неустойчивый динамичный имидж, определяемый в
опционной системе выбора. Пространственно-
временная, социально-деятельностная, символико-
идеологическая системы ориентации человека
эволюционируют вместе с условиями, в которых он
существует или оказывается исторически и ситуативно.
Современный информационный этап развития
цивилизации сопряжен с переведением объектного
мира в информационный план, где функционирование
и потребление объекта обуславливается его
включенностью в параллельный информационный
процесс, собственно, конституирующий этот объект.
Так, вся современная система потребительского рынка
основана на тотальной информатизации всего процесса
сбыта, начиная с рекламы, подробного
информирования о продукте на его упаковке или
этикетке и заканчивая новыми формами гибридного
медиапроизводства, когда целые журналы,
телепрограммы, фильмы, Интернет-ресурсы - т.е. уже
продукты сферы производства содержания – становятся
средствами продвижения на рынке определенных
товаров.
В этих условиях изображение как таковое превращается
в единицу информации, одновременно с этим активно
встраиваясь в процесс инструментализации самого
образного видения мира. Другими словами, образ
становится одновременно объектом и средством
манипуляции, где главная стратегическая цель –
управление мотивацией человека. Своего рода,
иконоборческая реакция искусства в ХХ веке на
перепроизводство визуальной информации в массовой
культуре и рекламе в известной степени также является
ответом на прагматизацию эксплуатации образности.
Крайности подобной эксплуатации – это реклама и
пропаганда (включая пропагандистское искусство),
претендующие на тотальную гегемонию в
формировании языка опосредованной коммуникации в
публичных пространствах.
Примечательно, с какой легкостью,
непосредственностью и быстротой в России
социалистические и коммунистические лозунги и
плакаты сменились еще более агрессивными по форме
и масштабам рекламными стендами, транспарантами,
целыми объектно-инсталляционными композициями и
корпоративными логотипами на крышах зданий, в том
числе имеющих для кого-то «важное историческое и
культурное значение». Если проследить логику пост-
советской трансформации всего процесса
оформительства и использования публичных городских
пространств, в частности, столь характерно и ярко
проявляющуюся в Москве, то станет очевидно, что,
несмотря на кардинальные перемены, произошедшие с
обществом, его менталитетом, реальностью его бытия,
идеологические модели манипуляции общественным
сознанием остаются в основе своей те же, что в
советскую эпоху. Более того, изменение внешних форм
публичной визуальной коммуникации, ее
направленности и концептуального содержания, что
составляет ее поверхностный уровень, практически не
затронуло ее базовый мотивационный уровень, суть
которого – формирование и активация архетипических
подсознательных установок и комплексов, а также
манипуляция ими. То есть если раньше было очевидно,
что плакат «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи»
это не про значение известно какой партии в
неизвестно чью эпоху, а инструмент дидактической
риторики, указывающей и фиксирующей на периферии
сознания идеологические ориентиры, то сегодня
изображение обнаженной девушки на рекламном
плакате не воспевает красоту женского тела, а будучи
средством незамысловатой PR- технологии, через
активизацию подсознательных инстинктов привлекает
внимание к продукту или бренду. Раньше массовое
тиражирование образа Ленина в монументальной
пропаганде под лозунгом «Ленин и теперь живее всех
живых» не было по сути данью памяти его личности и
заслугам, но являлось персонифицированной
символической аутентификацией партийной властью
своего исторически легитимного наследования и
следования «заветам Ильича»(1) , т.е. основателя или
прародителя, и, следовательно, легитимного, хотя и
насильственного, повсеместного присутствия и
естественной, при этом безоговорочной, центральной
руководящей роли. Сегодня же монументальная
реанимация тех или иных объектов и фигур прошлого,
как исторического, так и художественно
вымышленного, не есть в основе своей акт
увековечивания памяти других героев равно и
просветительства, но плохо осознаваемые, судя по
всему, попытки власти маркировать ландшафт своей
окультуриваемой таким образом деятельности
неуклюжими ассоциациями на тему «русская
национальная идея», как например: православие – Храм
Христа Спасителя, великодержавность – Петр I,
народное – сказки и т.д. На самом деле смысловая
функция объекта «со значением» в публичной
городской среде определяется не желанием заказчика,
а его взаимодействием с актуальным коммуникативным
общественным пространством, формирующимся и
меняющимся под воздействием целого ряда условий
социального, политического, экономического,
историко-культурного характера.
В более широком смысле фетишизация общественной
памяти, происходящая раньше по идеологическим
причинам, а сегодня в основном с целью создания
«туристических аттракционов», движима, главным
образом, двумя центростремительными силами:
унификацией и идентификацией самого этого
общества, а также его пространства на основе тех или
иных объединяющих идей и символов. Однако если
сейчас современное искусство для публичных
пространств(2) уже фактически отошло от
монументальности, а вместе с этим и от свойственной
ей тенденции к навязыванию идентификационных
символов «это ваш герой», «это ваша история», или
даже «это объект, который должен вам нравится»(3) , то
реклама как-будто подхватила эту эстафету с
невероятным энтузиазмом.
Собственно, фундаментальным для коммуникационной
модели любого рекламного послания является
обязательная коллективистская в основе своей
идентификация реципиента как потребителя, т.е.
человека, a priori стремящегося к удовлетворению
своих потребностей через материальное
потребление(4) , и унифицирующая конструкция
фантазматического желаемого. Другими словами,
реклама моделирует общие архетипические комплексы
желания, где рекламируемый объект играет роль
функционального атрибута, в то время как
соблазняемый субъект-потребитель включается в эту
пассивную коммуникацию подобно пациенту с
атрофированной функцией сознания, отвечающей за
способность определять для себя и воображать то, что
ему нужно. В этой насильственной инфантилизации
потребителя и смысловом выхолащивании его
потребностей ключевым коммуникационным элементом
является унифицированный, редуцированный до
элементарных значений, объектный визуальный код, на
котором строится вся репрезентативная система
рекламы. Жан Бодрийяр в своей книге «Система
вещей», анализируя социальную функцию этого кода,
названного им «стэндинг», пишет: «Такая
универсализация и эффективность достигается ценой
крайнего упрощения, обеднения, когда язык
социального достоинства регрессирует чуть ли не до
предела: «Человека характеризуют его вещи».
Связанность системы достигается благодаря созданию
некоторой комбинаторики, набора условных
элементов; то есть этот язык функционален, но
символически и структурно беден.»(5)
Потребительское сознание, натренированное
подобным всепроникающим функционалистским
языком, рискует оказываться в плену ограниченной
системы координат для определения значений и их
интерпретаций.
Аналогично и в пропагандистском искусстве
идеалистический, редуцированный в своих
индивидуальных характеристиках образ служит
переходным знаковым навигатором, направляющим
ход не столько мысли, сколько пассивных
ассоциативных реакций по маршруту выхолащенных
стереотипных значений, не имеющих множественной
трактовки в системе заданных смысловых координат.
Причем система эта в обоих случаях изначально
определяется функциональной сверхзадачей. Для арт-
пропаганды - это создание идеологических
мифологем, через которые наглядно транслируются
официальная догматика и утверждаемые ей ценности.
Для рекламы – это моделирование ситуаций наиболее
эффективного стимулирования самого акта желания и
его направления на тот или иной продукт. И первая, и
вторая через симуляцию искусственных иллюзорных
отношений вокруг объекта репрезентации, и
соответственно дистрибуции (коммерческой или
идеологической), маскируют реальные социальные
отношения, а главное, неотъемлемые от актуальной
действительности конфликты и противоречия,
определяющие социокультурный ландшафт жизни
любого общества.(6)
Эта проблема маскировочной нейтрализации
конфликтных процессов, происходящих в современном
обществе, усугубляется, а во многом и обуславливается,
теми стратегиями публичной коммуникации, которые
навязывают масс-медиа, будучи проводниками одной
из сторон публичности в современном обществе, где
публичный политик, ограничивающийся односторонней
риторикой и не участвующий в телевизионных и
онлайновых ток-шоу, не дающий интервью, сегодня
уже недостаточно публичен для поддержания
общественного интереса к себе. Очевидно, что
политика репрезентации публичной сферы в масс-
медиа строится по принципу аттракциона, где во главу
угла поставлено удовлетворение не реальных
общественных интересов, а частного праздного
любопытства, т.е. развлечение, в то время как за
кулисами масс-медиа-театра его механизм работает на
реализацию интересов узкой группы социальной элиты,
причастной к его управлению. Индустриальная
стандартизация и унификация масс-медиа продукции в
интернациональном масштабе как следствие общих
процессов экономической глобализации движима по
сути корпоративной логикой управления, где
содержательный аспект приобретает прагматическое
функциональное значение в системе реализуемых
корпоративных интересов. Манипулятивный характер
современной пропаганды и публичной
информационной войны уже не требует задействования
сложных идеологических комплексов воссоздания веры
в некие высшие ценностные иерархии. Как отмечает
Славой Жижек, настаивающий на том, что пост-
идеологическая эра еще далека от нас, новый уровень
развития идеологического дискурса отличается
приоритетной установкой на функциональность, а
потому и крайним цинизмом.(7) Достаточно вспомнить
недавнюю информационно-пропагандистскую
кампанию в поддержку войны в Ираке 2003 года,
осуществлявшуюся в США и Великобритании, а также
последовавшие за ней разоблачительные скандалы.
В условиях тотального взаимопроникновения,
взаимозамещения и сплавления физической реальности
и репрезентированной медиа-реальности пространство
публичной (в случае масс-медиа на самом деле квази-
публичной или вовсе таковой не являющейся)
коммуникации приобретает черты зеркальной комнаты,
где множественность отражений присутствующего
объекта мистифицирует наше о нем представление.
Характерное пристрастие к использованию опять-таки
аттракционного приема мистификации в коммерческих
целях демонстрируют масс-медиа в столь популярных
сегодня документальных телефильмах, якобы
открывающих зрителю «истинное лицо» и «тайны
жизни» звезд, разведчиков и других знаменитостей, а
также используя столь всегда популярный и
прибыльный жанр «разоблачений», в России
вылившийся в 1990-х годах в беспрецедентные
информационные войны в форме «сливов компромата».
В этих мистификациях и махинациях изображение
часто становится горячей жирной точкой, фото- или
видеофактом, вокруг которого разворачивается
наиболее ожесточенная борьба за достоверность, а
главное – за признание того, что изображенное
событие реально, а, следовательно, имеет право в
дальнейшем конституировать реальность. В ходе этой
борьбы образ героя, обличаемого или защищаемого
прямо или косвенно посредством изображения,
становится объектом манипуляционных
информационно-идеологических игр, где каждый
поворот сюжета, как то: «эксперты подтвердили»,
«эксперты опровергли», «автор съемки признался» и
т.д., - определяют очередную комбинаторику
итерпретационных значений, превращаемых в
информационный товар. Образная фактография
события формируется взаимообратимым
референциальным взаимодействием визуального и
нарративного рядов значений. Изображение здесь
(причем очень важно, что сегодня это, прежде всего,
реалеподобные фото и видео), будучи частью
«сочиняемого» текста, служит мостом в реальность,
важным символическим и одновременно
психологическим звеном между процессами
осциллированной интерпретации и наглядной
репрезентации факта.
Художник Лес Левин замечает: «Опыт лицезрения чего-
либо более не имеет ценности в контролируемом
программным обеспечением обществе, так как что-
либо, наблюдаемое посредством медиа, несет в себе
столько же энергии, сколько непосредственный опыт.
Мы не задаемся вопросом, происходят ли на самом
деле вещи, транслируемые по радио и телевидению.
Тот факт, что мы можем конфронтировать с ними
ментально через электронику достаточен для осознания
того, что они существуют…»(8) Да, мы знаем, что
взгляд фотографа и оператора избирателен, что
современные цифровые технологии монтажа позволяют
симулировать любую «реальную» сцену, однако, самого
присутствия «реальной» реальности в медиированной
реальности (реальность в квадрате = Симулякр(9) ) нам
достаточно для того, чтобы мы включились в диковатую
игру-аттракцион, или точнее квази-игру, отчасти
подпадающую под понятие-феномен Йохана Хейзенги
– пуэрилизм. Под пуэрилизмом Хейзинга
подразумевает те обобщенные свойства культуры XX
века, которые характерны для поведения подростка,
т.е. уже не наивного ребенка, но еще и не зрелой
личности, среди которых он указывает «легко
удовлетворяемая, но никогда не насыщаемая
потребность в банальных развлечениях, жажда грубых
сенсаций, тяга к массовым зрелищам» вплоть до
«ослабление моральных стандартов и чрезмерно
завышенная роль провожатого» и т.д.(10) Эта
элитарная и весьма спекулятивная сама по себе
концепция, выдвинутая Хейзингой в 1930-х, сегодня
напоминает о себе повальной «тинэйджиризацией»
массовой популярной коммерческой культуры, в
количественном отношении преобладающей над
другими формами культуры, включая различные, в том
числе и молодежные, субкультуры, большинство из
которых вообще не имеют доступа к средствам
публичной коммуникации.
Современное искусство на этом фоне предстает,
казалось бы, своеобразной элитарной субкультурой не
столько даже по форме своего существования «для
избранных любителей» или из-за комплиментарности
своей роли в современной культуре в целом (это уже
следствия), но, скорее, благодаря ограниченности
своего коммуникационного потенциала.(11) Искусство
как таковое уже не определяет облик нашей культуры,
вместо него это делаю масс-медиа, реклама и
индустриальные формы массовой культуры. Однако
функция визуализации, или точнее – изображения,
художественного представления реальности слишком
абстрактна и размыта для того, чтобы ставить ее во
главу угла в разговоре о роли искусства в
социокультурной жизнедеятельности общества. Если
сделать небольшой логический трюк и в данном
контексте рассмотреть искусство в качестве средства
коммуникации, т.е. как практику, технику, метод
производства и распространения информации
определенного – эстетического – свойства, при этом в
сопоставлении с другими формами-средставами
коммуникации (теми же масс-медиа, рекламой), то
возникает вопрос: в чем специфика этого средства с
точки зрения его вклада в процесс формирования и
циркулирования смыслов и значений в современном
обществе на уровне общественно значимых интересов?
Коль скоро произведение искусства – это по сути
информация, то какова ее специфическая ценность в
сравнении с другой доступной для общественности
информацией? Ответы на эти вопросы интереснее
всего искать на практике в безжалостном контексте
повседневной жизни публичных пространств, в
условиях неравного соревнования с агрессивной,
выверенной, просчитанной медиапропагандой,
монструозными идолами и туристическими
аттракционами. Эти вопросы переводят разговор об
искусстве в сферу политического, тем более
интригующе выглядит перспектива вынесения их в
пространство общественной, или публичной,
коммуникации, пусть даже оно и потенциально, а не
актуально. Но актуальным-то его делают
происходящие в нем события.
Искусство, активно вторгаясь в это пространство,
претендует на то, чтобы стать заявлением, в какой-то
степени заявлением также и от лица искусства,
поскольку пространство публичной сферы – это в
принципе место проявления своей позиции и
политического высказывания. В этом смысле
художественная акция в местах открытого
общественного доступа чревата повышенной степенью
ответственности за содержание, направленность и
эффективность ее послания. Ее содержание задается
динамикой актуальной ситуации, ее цель – запалить
костер сомнений и вопросов, ее эффективность
измеряется способностью динамизировать и расшатать
воспринимаемые за данность связи и отношения между
реальностью, ее репрезентацией и ее интерпретацией.
Если происходит смысловой взрыв, если в привычном
восприятии реальности возникает пусть даже
небольшой коллапс, если новые рождающиеся на
глазах отношения начинают генерировать
вопрошающую мысль, то мы близки к тому, чтобы в
очередной раз убедиться: победа искусства – в
эмансипации воли к воображению другой реальности.
Татьяна Горючева – искусствовед, историк
медиаискусства, куратор
-----
1- Как мне кажется, напрашивающаяся здесь аналогия
с религиозной риторикой не случайна. Для
противоречивой в своей логической структуре
репрезентативной системы социалистической
пропаганды характерно, что отчасти она повторяет
символико-идеологическую модель, используемую
христианской церковью, что отражается, в первую
очередь, в программных заимствованиях: канонизация
героев как святых, жесткая иерархиезация системы
ценностей и догматизм, возведение в особый ранг
темы жертвенности и мученичества, массовое
воспроизведение образа вождя как мессии, наглядная
дидактика и др.
2 - В английском языке устоявшийся термин public art
3 - Если монументальные символы власти
разрушаются или подвергаются вандализму в ходе
политических протестов и восстаний как атрибуты
навязываемого ею строя, то эстетически непонятные, а
потому раздражающие, художественные объекты для
публичных пространств вызывают гнев, прежде всего,
как материальные объекты, которые в понимании
непонимающих их не обнаруживают в себе
достаточного уровня приложения профессиональных
творческих усилий и мастерства, и поэтому
воспринимаются как недостойные присваиваемых им
значения и ценности, т.е. как профанация искусства.
Известны случаи общественного протеста против
установки абстрактной и минималистской скульптуры в
публичных местах.
4 - Бодрийяр расширяет смысловые границы понятия
потребление в своем анализе структуры современной
материальной культуры: «<…> потребление есть
активный модус отношения – не только к вещам, но и к
коллективу и ко всему миру, - <…> в нем
осуществляется систематическая деятельность и
универсальный отклик на внешние воздействия, <…>
на нем зиждется вся система нашей культуры.» И тут же
далее: «Потребление, в той мере, в какой это слово
вообще имеет смысл, есть деятельность
систематического манипулирования знаками.» (курсив
автора) Жан Бодрийяр. Система вещей. М: Рудомино,
1995. С. 164
5 - Жан Бодрийяр, там же. С. 162-163
6 - Тот же Бодрийяр формулирует логику этого
процесса идеалистической семантической
трансфигурации следующим образом: «Перед нами
проанализированная Марксом формальная логика
товара, доведенная до конечных выводов: подобно
тому как потребности, чувства, культура, знания – все
присущие человеку силы интегрируются в строй
производства в качестве товаров, материализуются в
качестве производительных сил, чтобы пойти на
продажу, - так и все желания, замыслы, императивы,
все человеческие страсти и отношения сегодня
абстрагируются (или материализуются) в знаках и
вещах, чтобы сделаться предметами покупки и
потребления. <…> остается живым стремление к
революции, но, не актуализируясь на практике, оно
потребляется в форме идеи Революции.» Жан Бодрийяр,
там же. С. 165, 167.
7 - Славой Жижек. Возвышенный объект идеологии. М:
Художественный журнал, 1993
8 - Edward A.Shanken. Art in the Information Age:
Technology and Conceptual Art. <http://www.duke.edu/
~giftwrap/InfoAge.html> (Статья для кн. Michael Corris,
ed. Invisible College: The social dimensions of Anglo-
American conceptual art. Cambridge UP, 2002)
9 - Термин Бодрийяра – т.е. упрощенно:
гиперреальность, симулированный суррогат
реальности, репрезентируемой посредством медиа
10 - Йохан Хейзенга. Homo Ludens. В кн. Йохан
Хейзенга. Homo Ludens. Статьи по истории культуры.
М.: Прогресс – Традиция, 1997. С. 195.
11 - На фоне социальной, политической, культурной
динамики ХХ века: при упразднении сословной
иерархии, установлении демократических форм
правления, в первую очередь, в странах Европы,
совмещении и взаимопроникновении различных форм
культуры, - риторика противопоставления понятий
«высокая культура » (т.е. аристократическая,
просвещенная) и «низкая культура» (народная,
массовая) попросту неуместна.
|
|
|
|
|
 |
|