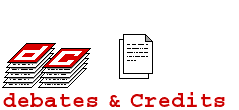|
| Виртуальность, adieu mon amour... |
| Что будет, когда «наши» медиа столкнутся с «реальным» миром? |
|
Эрик Клюйтенберг
Как уже писала Донна Хэрэвей, определяющей
характеристикой нашей киборгоподобной жизни
является гибридность. Все мы множественны и
существуем сразу в нескольких мирах. Наша реальность
состоит из набора разнородных элементов. Мы
должны сочетать несочетаемое в каждый момент нашей
жизни, и это называется выживанием. «Добро
пожаловать в реальный мир?» Глупости! Матрица -
ностальгический образ, скорее из Ги Дебора, чем из
Бодрийяра; как будто есть «реальный» мир за
пределами этой череды воплощений, этой
непрекращающейся галлюцинации, которую мы видим
каждый день... |
Возможно, мы пропустили что-то важное, тогда, в
начале 90-х, в прошлом тысячелетии, еще до
катастрофы, до переплавки, до того, как лопнул
мыльный пузырь. Тогда общие временные обозначения
с их высоким «коэффициентом неопределенности»
вселили в наши попытки (пусть ненадолго) ложное
чувство объединения, ошибочное ощущение
сопричастности. Самые храбрые (или наивные, или то и
другое?) объявили наше новое пространство
«независимым» - эта идея не прожила и дня («Как? А
наши тела? Они тоже станут независимыми...??»)
Однако все еще сильным было чувство, что возможно
построение новой параллельной социальности,
которой не будут касаться границы, рамки сословий,
предписания, институциализация - то есть власть...
Когда появились ограничения, мы стали говорить об
электронных границах, включении/исключении и
цифровом разделении. Наш друг Кастельс говорил о
двух пространствах: пространстве потоков, сетей и
каналов коммуникации, пространстве высоких
технологий, где концентрируется огромная власть; ему
противопоставлялось пространство места, физическая,
телесная, серая реальность обыкновенных людей,
влачащих свое жалкое существование в горе и
страданиях. Время наводить мосты, заключил Кастельс,
и как же он был прав... Но не успели построить мосты,
как прорвало плотины и пространства слились,
образовав грязную жижу. Оказалось, что виртуальное
пространство было вовсе не таким уж виртуальным, а,
на самом деле, довольно реальным: там были и деньги,
и власть, и обман, и коррупция, и кумиры, и
зависимость, и цинизм...
(WorldCom, World-Online, Enron, Quest, Morgan Stanley,
Goldman Sachs, Merrill Lynch, AOL..... Длинный и в
самом деле гибридный список...)
Нам пришлось понять, что пространство потоков
глубоко укоренилось в нашей социальной жизни.
Нельзя провести четкую границу между цифровым и
телесным миром, точно так же, как нельзя разделить
реальное и виртуальное. Медиа- это то, из чего
сделана социальная реальность, пространство, где
циркулируют коды, задающие параметры социального.
Что нужно сделать, так это внедрить стратегии
автономных медиакультур 90-х в телесное
пространство, в котором мы живем, что, как ни
парадоксально, требует использования тех самых
технологий, которые породили охвативший нас
беспорядок. Шагом в этом направлении может стать
провозглашение новой чувствительности,
чувствительности ко всему гибридному, вынужденно
нечистому, соприкасающемуся с реальной жизнью,
желающему слияния и заражения. Бестелесный мир
медиа должен быть заражен вирусом реального, а
пространство повседневной жизни- вирусом
медийного. Мы ищем модели, которые разрушили бы
иллюзию совершенного контроля...
Рublic Domain 2.0
Публичная сфера 2.0
Амстердам имеет славную историю освоения
социальных пространств, появившихся с постепенным
превращением Интернета в публичное средство
коммуникации в первой половине 90-х годов. Модель
Цифрового Города, метафорического аналога
структуры социальных процессов, существующих on-
line в быстро развивающемся Интернете, был прямым
продолжением местного сквоттированного
медиапространства.
Первое правило включения: Никогда не спрашивай
разрешения, просто появись.
В амстердамском сквоттерском движении
необходимость поиска достойного жилья быстро
упразднила вопросом о том, достойно ли самовольно
захватывать пустующее здание. Отсюда было нетрудно
сделать концептуальный шаг в сторону
медиапространств, свободных, вакантных и не
используемых, с тем чтобы заполнить пустоты этой
медиа-архитектуры, используя лазейки и находя пути
вторжения. Известна история о том, как в Амстердаме
сквоттеры нашли вход через открытую спутниковую
антенну, которая передавала корпоративные и
государственные рекламные программы из-за границы
для местных обывателей. Ночью, когда «диванные
чипсы» спали, сквоттеры направляли свой сигнал через
тарелку прямо на телеэкраны ночных гостиных. Они
создали альтернативное вещание для ночных пташек,
безработных, страдающих бессонницей, художников и
других маргиналов....
После серии жалоб, причем не только владельцев
телеканалов, операторов кабельного телевидения и
недовольных зрителей, последовало решение,
характерное для удивительной логики голландского
прагматизма: городские власти не запретили
медиасквоттеров, а легализовали их. Важно отметить,
что вследствие легализации новое социальное явление,
возникшее в телевизионном пространстве Амстердама,
перестало быть местом тотальной свободы и
превратилось в регулируемую сферу, несмотря на то,
что она предоставляла населению города
беспрецедентный доселе уникальный доступ к экрану.
Возникло разнообразие голосов и медиакультур.
Каждая маленькая группа в своем маленьком углу:
этническая, религиозная, эстетическая, политическая,
даже сами сквоттеры, - получили свой регулируемый
угол в медиадоме. Амстердам превратился в идеальную
экспериментальную площадку для публичной сферы
нового рода, пространство для общественности,
которое разворачивается через медиаканалы, а не на
улицах и площадях.
Нельзя ли воспользоваться вашим каналом связи?
В сложившейся ситуации стало логичным провозгласить
не только телевидение и радио, но и пространство
Интернета новым средством коммуникации и обмена,
доступным не только академическим и
исследовательским кругам, но и широкой публике.
Знаменитая общественная сеть «Цифровой город»
достигла значительных успехов в связи с ростом
использования Интернета в Нидерландах в середине
90-х годов. Намеренно локальная, использующая
голландский язык, эта сеть, в пространстве
«глобального» Интернета, стала попыткой создать
публичную сферу в цифровом пространстве как
параллельную реальность, основанную на метафоре
реального города и постепенно обретающую свою
собственную динамику.
До определенной степени, сквоттерско-медиа элита
Амтстердама была привилегированным сообществом.
Демонстрация первых приверженцев движения с
плакатами «We Want Bandwidth!» ["Мы хотим широкий
пропускной канал связи!"] в центре Амстердама
послужила толчком к появлению международных
кампаний и исследовательских проектов. В рамках
временной медиалаборатории «Hybrid Workspace» во
время десятой Документы в Касселе 1997 года у
участников кампании «Bandwidth» возникли непростые
вопросы. Канал связи, или возможность передачи
сигнала при сетевом соединении, стал не только
символом права и способности пользоваться
информационными ресурсами и общаться с
единомышленниками в цифровой сети, но и
выражением, в технических терминах, новой системы
ценностей и нового экономического порядка, где
доступ к каналу связи означал возможность участия в
разворачивающихся глобальных экономических
процессах.
«Нельзя ли воспользоваться вашим каналом связи?» -
спрашивали мы у посетителей Документы, которые
(какой сюрприз!) в большинстве своем имели
скоростной доступ в Интернет. Однако когда мы стали
задавать этот вопрос за пределами нашего узкого
круга, картина резко изменилась....
Мы измерили распределение узлов соединения в сети:
Страна: Количество узлов: Количество человек
/ 1 узел:
Нидерланды 270.521 57
Германия 721.847 115
Япония 734.406 170
Румыния 8205 2600
Индия 3138 300.000
Камерун 0
( http://www.waag.org/bandwidth , июль 1997)
Возможно, сейчас ситуация несколько изменилась,
однако общая картина остается прежней. Даже если
предположить, что сегодня услугами глобальной сети
постоянно пользуются более 500 миллионов человек,
это все равно означает, что 90 % населения земного
шара не имеют или практически не имеют доступа в
Интернет. Если мы говорим о новом публичном
пространстве, необходимо, прежде всего, разобраться
с этой ситуацией неравенства.
Доступ к информации и коммуникации должен стать
фундаментальным демократическим правом каждого
жителя Земли.
Год спустя те же люди, организовавшие кампанию за
доступ к каналам связи, а также несколько новых лиц
продолжили работу над обширным «Общественным
исследованием» под названием «Публичная сфера 2.0»
[Public Domain 2.0], проводимым Обществом старых и
новых медиа «De Waag» в Амстердаме в начале 1998
года. Мы находились в поиске определения нового
публичного пространства, быстро развивающегося
вместе с ростом Интернета. Новая версия публичной
сферы, 2.0, все еще находилась в фазе бета-
тестирования...
Мы в достаточной мере осознавали все несоответствия,
кроющиеся в самом понятии «Публичная сфера 2.0»,
противоречия в обращении к различным аспектам
реальной жизни, невозможность осознать их все сразу.
Один из нас, Дэвид Гарсиа, провозгласил, что новое
пространство потоков, возможно, станет в будущем
ведущей социальной, политической и экономической
силой, но «МЕСТА НЕ ИСЧЕЗАЮТ!!»
Гарсиа: «В более широкой культурной и политической
экономике в виртуальном мире обитает
космополитичная элита. Грубо говоря, все элиты
космополитичны, тогда как население - местное.
Пространство власти и богатства проецируется на весь
мир, тогда как жизненный опыт людей укоренен в
конкретном месте, в конкретной истории и культуре.»
Однако мы все еще пытались понять, что же такое
«публичная сфера», и как она проявит себя в новом
контексте цифровых сетевых медиа. То есть вначале мы
задали очевидный вопрос: «Что такое публичная
сфера?»
В то время мы ответили на него так:
“Прежде всего, понятие публичной сферы как
социокультурного пространства должно быть отделено
от ее юридического определения. Под публичной
сферой традиционно понимается пространство обмена
идеями и воспоминаниям, а также их физическое
выражение. Памятник как материальное воплощение
памяти и истории сообщества как нельзя лучше
иллюстрирует этот принцип. Открытый доступ,
обсуждение, неприятие и, наконец, апроприация
общественного памятника - традиционные формы
политической борьбы вокруг коллективной памяти и
истории.”
Итак, наше путешествие в мир сетей, который Голливуд
и некоторые запутавшиеся теоретики называют
виртуальностью (или того хуже - виртуальной
реальностью), привело нас обратно к памятнику!!! К
этому грубому символу авторитарной власти, к этой
груде кирпичей, цемента, камней и стали...
Памятник...одновременно вещь и символ, доцифровой
гибрид, такой знакомый...
Покидая виртуальность
Уход из виртуальности - болезненный процесс не
только для кибер-энтузиастов. Мы, представители
критической сетевой контр-культуры, тоже купались в
мечтах о временном автономном цифровом
пространстве. Да, мы понимали, что оно было
временным, и что конец его близок, но все же
надеялись, что оно проживет чуть дольше... Обвал
новой экономики в 2000 году заставил нас спуститься с
небес на землю...
Однако кое-какие сдвиги все же произошли. Бум
прошел, но сеть жива и продолжает развиваться.
Взамен широко открытых границ мы увидели страшную
мину наблюдения, слежки и контроля, усиленного,
усовершенствованного, особенно после 11 сентября...
Рождение сетевого общества контроля...
Вначале ставшие коммерческими, а затем вернувшиеся
к государственным структурам, автономные сетевые
пространства вновь оказались глубоко укорененными в
обычный социальный порядок. Никакой независимости.
Однако кое-что было достигнуто благодаря этому окну
возможностей в 90-х – это сдвиг в общественном
сознании. Заслуга сетевых медиа в том, что они
поставили под сомнение необходимость
профессиональной монополии в средствах массовой
информации. Где, кроме как не на местном
телевидении Амстердама, есть открытые общественные
каналы? Ну, хорошо, в Берлине, в нескольких городах
Америки, но это скорее исключения из правил. Как и
городское пространство, сфера медиа всецело
находится в руках и под неусыпным контролем
профессиональных и властных элит. Однако если мы
захотим узнать то же самое применительно к
Интернету, результат, к всеобщему удивлению, будет
обратным: Где в Интернете открытое свободное
пространство? Ну..., в середине 90-х найти его можно
было везде, где был доступ в Интернет. Модель
общественных каналов, распространилась, таким
образом, повсюду, так что молодое поколение может
ощутить на себе применение этой новой модели медиа.
На первый взгляд следующее утверждение кажется
очевидным, однако оно содержит фундаментальный
сдвиг в понимании электронных медиа, существующих
в реальном времени: это система, направленная на
трансляцию множества разных голосов немногим
(готовым слушать), в отличие от индустрии массового
медиапроизводства, транслирующей несколько голосов
многочисленным молчаливым потребителям. Брехт
получил то, что заслужил, то, что было отнято у радио
70 лет назад…, радикально открытое пространство. И
наступил хаос...
Модель медиа «do-it-yourself» [«сделай-это-сам»]
глубоко укоренилась в сознании молодого поколения
художников, активистов и обычных пользователей,
которые не спешили избавиться от этого наследия.
Кое-что было усвоено: что заниматься
медиапроизводством легко, что «качество» - спорная
категория, а знак субъективного гораздо важнее
профессиональных требований. Медиа могли бы стать
многоликими: от дилетантизма до поэтичности, от
абсурда до гротеска, от банальности до дендизма. В
этой медиаигре важна артикуляция другого мнения.
Маркетологи тоже поняли это, однако, их ждет
большой сюрприз, поскольку просто использование
«как бы» непрофессионального медиавзгляда на мир
оставит их в контакте все с той же пассивной
аудиторией потребителей, уже привыкшей к
ежедневному потоку капиталистическо-
террористической пропаганды. Реальные результаты
исследований в новых районах, снабженных
высокоскоростным доступом в Интернет, оказались
ошеломляющими: пользователи передавали больше
информации, чем получали с помощью своих новых
медиа-игрушек: ecce homo medialis....
Я транслирую, значит, существую!
Попробуйте внедрить это в вашу маркетинговую
стратегию!!!!
Гибридное пространство
Это молодое поколение не просто переносит модели,
взятые из сети, на давно освоенный ландшафт
аналоговых медиа. Эту телепортацию можно назвать
появлением гибридных медиа, где взаимодействуют
цифра и аналог, сетевые и волновые приемники,
Интернет и телевидение, радио и нет-аудио. Об этом
бессмысленно рассуждать, все уже случилось, нужно
только смотреть и видеть.....
Гибридизация преодолевает ограничения медиа.
Благодаря возникновению огромного количества новых
беспроводных протоколов, цифровые медиа становятся
подвижными и перемещаются в физические
пространства. Мобильный телефон телепортирует
аудио повсюду, новые приборы перемещают
изображение туда, где их появление было до сих пор
невозможно. Загрязнение поверхности Земли
завершено. Разъединение в эру беспроводной связи -
настоящая привилегия!!!
Став мобильными, медиа сливаются с окружающей
средой. В результате, появляется не новое медийное и
не новое физическое пространство, а новое гибридное
пространство, пространство взаимосвязей. Что лежит в
основе логики этого пространства? Парадокс!
Противоречивое по сути, оно живет и процветает...
Какой вопрос чаще всего задают друг другу люди по
мобильному телефону...?
Ты где?
Какая разница где, раз мы говорим по телефону, ясно,
что мы не вместе, и поскольку каждый из нас все еще
является физическим телом, мы не можем перемещаться
со скоростью света (как информация), то мы
оказываемся в ситуации несовместимости… И все
равно мобильные телефоны все еще популярны...какой
ужас!!! Уничтожение трубок?? Это не выход, их уже
слишком много и они повсюду, сопротивление
бесполезно....
reBoot
В 1999 году мы посадили 50 художников на корабль,
сверху донизу набитый современным оборудованием,
для того чтобы познать противоречивую логику нового
гибридного пространства, слияние физического и
медиированного. В результате, мы познали на своей
шкуре упрямое сопротивление физических и
экономических ограничений. Корабль следовал вдоль
Рейна из Кельна в Роттердам и Амстердам; но, к
нашему удивлению, когда мы попытались заключить с
одним из крупнейших операторов мобильной связи
договор о трансляции всего, что происходило на
корабле в течение недели, в сети Интернет, они
отказались в последний момент - и почему? Потому что
они не могли гарантировать полное покрытие. Не
хватало вышек!! И это в одном из самых густо
населенных и одном из самых развитых районов
Европы. Мы были поражены.
Франс Вогелаар, архитектор и профессор Кельнской
Академии медиаискусств, с большим интересом отнесся
к противоречивому феномену взаимодействия между
физическим и медиа пространствами. Мы вместе
работали над проектом «reBoot» и пригласили к
участию в нем молодых художников, андеграудных
медиа-активистов, нет-аудио экспериментаторов,
художников, работающих со звуком, в жанре
перформанса и др., чтобы они в течение недели
заполнили пространство корабля проектами с
использованием медиа. Результаты проекта постоянно
транслировались в Интернете в режиме on-line, а также
демонстрировались по местному телевидению
Амстердама. Первым интересным наблюдением стало
отсутствие у проекта пространственной протяженности:
в то время как медиаположение «reBoot» было
фиксированным (адрес веб-сайта и местный
телевизионный канал в Амстердаме), его
рассредоточение - абсолютно децентрализованным (в
Амстердаме по телевидению, в других местах через
Интернет), а физическое место дислокации проекта
постоянно менялось (корабль плыл по реке), и в то же
время он был локализован в одной точке (на корабле).
Все это позволило нам выстроить интересную систему
координат.
То, что у нас не было постоянного канала трансляции
событий в реальном времени, и мы были вынуждены
сами на машине доставлять некоторые материалы с
корабля на студию в Амстердаме, и что в портах нам
часто требовался аналоговый телефонный кабель,
чтобы установить Интернет-соединение, было, в конце
концов, не так уж плохо. Все эти препятствия тоже
стали частью эксперимента, свидетельством
беспорядочности гибридного пространства. Когда
медиа погружаются в физическую среду, они
неизбежно сталкиваются с ограничениями «тела» и
«места»....
Так это и есть «реальный» мир?
Публичное пространство - это гибридный монстр....
А разве... реальное – это не то, существование чего
признается обществом? И что признается обществом?
То, в чем нас убеждают в кругу друзей, или то, что мы
ежедневно получаем из хаоса средств массовой
информации; из чего состоит наш собственный,
особенный мир? Публичное – это не то, что
конструируется само собой в пространстве? И что, в
таком случае, есть публичное пространство?
Сейчас уже невозможно рассуждать об одномерном
публичном пространстве. Митинги, происходящие в
физическом (телесном) пространстве, на самом деле,
заранее подготовлены и срежессированы в
пространстве медиа. Когда политики обращаются к
народу, они смотрят в камеру, поверх голов, так как
знают, что реально их обращение будет воспринято
через средства массовой информации. Это не делает
медиа менее «реальными», так как сама реальность, по
крайней мере, в социальном плане, построена по
законам медиаигр. Именно там формируется и
постоянно реформируется коллективное сознание и
коллективная память. Медиа - то, из чего сделана
социальная реальность, то, что трансформирует
реальность физическую. При этом физическая
реальность остается для медиасферы питательной
средой.
Если мы, в эру гибридизации, хотим трансформировать
публичную сферу, мы должны действовать
стратегически, используя многомерные тактики. Мы
уже научены горьким опытом, что использования одних
только медиа недостаточно. Без взаимодействия с
остальным миром, где живут реальные люди (и где
даже виртуальное население вынуждено обитать, пусть
даже из биологической необходимости), пространство
медиа, Интернета, сетевых сообществ может легко
превратиться в современное гетто. Если мы хотим
преодолеть изоляцию медиасферы, у нас нет другого
выбора, кроме как переместиться в физическое
пространство.
Для этой цели нет места лучше, чем пространство
современного города. В плотности городской среды
человек в наибольшей степени ощущает давление
«реального» мира. Вы когда-нибудь слышали о
«разрешениях»? Для Интернет-поколения это слово
звучит дико. Зачем просить разрешения, если все, что
ты хочешь - это говорить своим голосом?
Не забыли о системах наблюдения и контроля?
Постмодерный город - арена интересов власти. Он
взывает к воображению, и далее, через
тиражированные образы, к массам. Треугольник город
– медиа – воображение определяет, перефразируя
МакКензи Уорка, векторную власть, которая
проецирует относительно будущего последствия своих
действий в настоящем. Именно в этом потенциальном
локусе – местах коллективной идентификации,
являющихся одновременно символами и физическими
объектами - медиа-власть потерпит поражение в
своей борьбе. Этот образ можно символически освоить
и одновременно физически посетить. Здесь признаки
реального проступают наиболее отчетливо... Если вы не
верите, что 9/11 действительно было, можете
отправиться в Манхэттен и увидеть все своими глазами.
Памятник апроприирован...
Проект «Дебаты и Кредиты», реализованный в
Амстердаме, Екатеринбурге и Москве, стал призывом к
развитию многомерной визуальной культуры в городе.
Как Рафаэль-Лоренцо Хеммер, сказавший однажды о
своем проекте «Relational Architecture» [«Архитектура
отношений»]: «Мы хотим, чтобы изображений в городе
стало не меньше, а больше», - мы также находились в
поисках других нарративов для публичного городского
пространства. Мы искали способы взаимодействия
городского и медиа пространств путем соединения,
гибридизации, перекрестного опыления и
инфицирования. Когда Рафаэль призывает создавать
больше изображений, он говорит не о количестве -
прогуливаясь по улицам Москвы, любой заметит, что в
них нет недостатка! Вместо этого, мы стремимся к
большему разнообразию образов, нарративов и
дискурсов в публичных пространствах.
В проекте «Дебаты и Кредиты» выбор был намеренно
сделан не в пользу чисто политической (или анти-
политической) позиции. Это означало бы капитуляцию.
Вместо этого, проект выявляет множество моделей
артикулирования «других» голосов и мнений в
публичной сфере. Перекрестное соединение медиа и
городской среды не является, в данном случае, ни
маркетинговой схемой, ни средством пропаганды.
Гибридизация скорее открывает путь в новое сенсорное
и коммуникативное пространство - пространство
независимого чистого эксперимента. Проект далек от
дидактики. Нас больше привлекала стратегия
партизанской войны: «Появись без разрешения!»
(Конечно, мы не громили богемные сборища в
костюмах горилл - какая слабая акция!)
Мы спрашивали: На чем строится публичная
коммуникация в гибридных пространствах?
На конфронтации.
Не нужно бояться трений, когда сталкиваешься с
гибридностью, в них нет ничего сверхъестественного.
Конфронтация - это неожиданное столкновение с
непредвиденным. Это так естественно, однако
вызывает панику в наиболее «продвинутых»
современных обществах, где контроль, прежде всего,
означает победу над непредвиденными
обстоятельствами. Общество в странах первого мира
заперто в мире взаимных самоубеждений. Иллюзия
общемирового консенсуса (чего, стоит, например, идея
«конца истории») разрушается только катастрофой,
когда уже слишком поздно...
Лучше разбить эти иллюзорные поверхности, не
дожидаясь катастрофы.
Как проникнуть в сферу общественного воображения в
эпоху гибридности?
Путем работы с пространствами одновременно
символическими и физическими: в нашем случае,
идеальное сочетание обнаружилось в городском
памятнике. Когда мы проецировали оцифрованные
послания на скульптуру «Рабочий и колхозница»
Мухиной, этот одиозный памятник культурному мифу
советской эпохи, мы наложили подвижные
персональные нарративы поверх многослойной
истории, воплощенной в виде символа в камне и стали.
Оглядываясь назад, мы выбрали самое лучшее место
для изучения моделей многомерной городской
визуальности, к которой мы стремились с самого
начала. Наконец, мы оказались в гибридном
пространстве.....
Эрик Клюйтенберг – медиатеоретик, организатор в
области культуры и технологий, в настоящий момент
работает в Центре культуры и политики De Balie,
Амстердам
|
|
|
|
|
 |
|