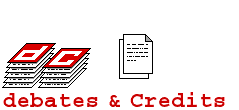| essay |
 |
|
|
 |
 |
| Конструируя цифровое общественное достояние
Вхождение в гибридизацию |
|
|
Эрик Клюйтенберг
Амстердам, март 2003
Демократия может быть рассмотрена с двух
примечательно различных позиций. С
институциональной точки зрения, под
демократией понимается взаимодействие
институциональных акторов, которые
представляют «народ» и избираются
количественным методом через плебисцит:
публичное голосование, опросы и иногда
референдумы. Другой взгляд на демократию
радикально отличен пониманием возможностей
участия людей в народных собраниях, дискуссиях
и обмене идеями о жизненно важных социальных
вопросах, самоорганизации вокруг этих вопросов,
свободного заявления своих мнений в публичных
форумах, в соответствии с чем измеряется уровень
демократичности общества. |
Причем вторая точка зрения не обязательно
исключает государство, обычно рассматриваемое
как воплощение институциональной демократии.
Тем не менее оно очевидным образом ограничено
в своей роли носителя демократии. Скорее
государство может рассматриваться как, к
сожалению, необходимый институциональный
актор, который должен гарантировать
пространство существования, где может
разворачиваться демократия, понимаемая в
соответствии со вторым взглядом.
«Мы» [1] можем повесить ярлыки на обе позиции.
Мы говорим здесь о переходе от
репрезентативной (или представительской) к
партисипативной (или участной) демократии,
принимая во внимание также и следующий
переход от государства к (на самом деле не менее
проблематичному) понятию сообщества как
организующему принципу демократического
социального порядка.
Но сейчас моя задача не написать эссе о
политической теории, а подготовить основания
для обсуждения концепции, которая тесно связана
с этими макро-политическими тенденциями и
которая всплыла недавно в целом ряде различных
дискуссий в рамках разных дисциплин и
контекстов: понятие «commons»/ «общественное
достояние» [*].
Интересно, что эта концепция довольно
настойчиво появлялась в дискуссиях о социальном
измерении коммуникационных и сетевых
технологий и формировании сетевого общества.
Что объединяет эти дискуссии и проекты, так это
опасение, что потенциал цифровых сетевых
образований (networking) растрачивается в пользу
узких краткосрочных экономических интересов.
Интересы, однако, промоутируемые некоторыми
из наиболее влиятельных сегодня мировых
экономических и политических игроков.
То, что понятие общественного достояния
возникло в этом контексте, едва ли является
сюрпризом. В обществах, связанных с медиа и
коммуникационными технологиями, социальные
процессы больше не могут быть поняты
изолированно, а только в совокупной взаимосвязи
с социальными, политическими культурными
сферами через различные системы медиирования в
реальном времени: телевидение, радио,
спутниковая коммуникация, Интернет и цифровые
сети, сотовые телефоны и третье поколение
беспроводных медиа. В противоположность этому
пространство электронных коммуникаций не
может быть отделено от контекста реального
времени, в которое оно вплетено. Остатки былых
восторгов по поводу бестелесного
«киберпространства» теперь лежат забытыми на
мертвых веб-сайтах, как доисторические руины,
следы виртуального, очень похожие на объекты
палеонтологического изучения – исчезнувшие
особи динозавров…
На протяжении последних нескольких лет реально
существующие силы с защищаемыми законами
интересами весьма активно вступили в игру в
онлайновом мире. После «дотком»-вторжения и
массированной коммодификации
информационного пространства в цифровую
сетевую сферу ринулись силы охраны, слежения и
контроля. Большой эксперимент свободного
коммуникационного пространства, которое,
казалось бы, обеспечивает Интернет как
публичный медиум, теперь выглядит как ставшее
уже историей временное окно для
вырисовывавшихся тогда возможностей. Если мы
до сих пор беспокоимся об общем пространстве
знания, идей и информации, медиируемых по
всему миру сетевыми цифровыми медиа, мы
больше не можем принимать этот принцип как
данность, т.е. как «естественно» вживленный в
Интернат. Вместо этого пространство
взаимосвязанных цифровых сетей должно
рассматриваться как новое место для
политических противоречия и борьбы, где
открытые зоны, онлайновые места встреч, общие
ресурсы должны быть самоохраняемымыи и
защищенными от властных сил, которые угрожают
им. Все еще существует большой потенциал для
цифрового общественного достояния, но он
требует формулирования политической
программы, которою нужно активно продвигать.
Все это указывает на необходимость нового
набора концептуальных средств, которые могут
помочь нам понять условия, в которых
разворачивается новая динамика. Первая
динамическая модель, которую необходимо
осмыслить, это гибридизация: гибридизация
медиа и форм коммуникации, гибридизация
пространства, дисциплин, а также гибридизация
дискурсов. Гибридность определяет условие, где
предмет общественного достояния вступает в
игру. Здесь нет ни гигиенического или
независимого пространства, ни виртуализации, но
также нет и стабильного «реального», которое
обеспечивает нам опору под ногами – нет даже
полей сражений, несмотря на то, что люди
умирают там… Грязь неизбежна: сфера
гибридности – беспорядочное место.
Определение «общественного достояния» [the
commons]
Основная форма: община / common
Часть речи: существительное
Дата: XIV век
1 мн. ч. : общинные люди
2 мн. ч. но ед. по конструкции: общий обеденный
зал
3 мн. ч. но ед. или мн. по конструкции, часто
заглавными буквами а: политическая группа или
сословие, состоящее из недворян (коммонеров), б:
парламентские представители коммонеров, в:
ПАЛАТА ОБЩИН.
4 : законное право получения прибыли на чужой
земле совместно с собственником или другими
5 : участок земли - объект общего пользования как
а: неделимая земля особенно для выпаса скота; б:
публично открытое пространство в
муниципалитете [*]
[источник: Webster on-line dictionary]
Происхождение концепции Commons датируется
XIV веком и отсылает к понятию «общинная
земля», появившемуся в Англии в то время. Идея
была введена вместе с защитными мерами,
направленными на решение проблемы пеших
дорог, необходимых для связи деревень и
районов друг с другом, которые постоянно
превращались в фермерскую землю, т.е.
становились приватизированными, тем самым
нарушая связи между различными сообществами.
Выяснилось, что для того, чтобы эти дороги
оставались открытыми, им необходима какая-то
форма защиты, и эта защита должна быть усилена
для большего блага «общин» и «общественного
достояния» (commons).
В разговоре о цифровом общественном достоянии,
проведенном для журнала Mute Моникой Нарула,
членом видео-коллектива Raqs, одной из
основателей медиа-инициативы Sarai в Дели,
упоминается эта конкретная история:
«Приятель-путешественник из Англии – один из
тех, кто ходят на длительные прогулки ради
удовольствия, получаемого от «гор, равнин, болот
и спусков» – сказал, что когда они гуляют, то
делают это частично для того, чтобы сохранять
тропы публичными. Многие из этих пешеходных
путей появились оттого, что были протоптаны
бесконечным числом людей за многие годы. По
закону, если они не будут использоваться
публикой для прогулок по ним, они превратятся в
частную собственность.»
[Monica Narula, "Tales of the Commons Culture", in
Mute Magazine, London July 2001]
Здесь мы видим почти Виттгенштейновскую
формулу. Для того чтобы дороги оставались
общественной землей, которой они являются, они
должны использоваться, т.е. общественное
пространство определяется и конструируется
через использование. Оно не дано, это продукт
жизненной социальной практики (действительно,
как язык), и оно эволюционирует во времени. Оно
не постоянно, но может поддерживаться многими
поколениями, до тех пор, пока последующее
поколение достаточно заботится об общественном
достоянии для его действительного
использования. Важно, что общественное
достояние здесь не пассивный принцип, некий
доступный ресурс, который может быть
использован или проигнорирован по желанию.
Если никто не берет на себя ответственность за
общественное достояние (здесь за общественную
землю пеших дорог, пространство связи), тогда
оно исчезает. Это органически вплетено в саму
ткань сообществ, которые разделяют
общественное пространство.
Общественное достояние на первый взгляд близко
более широкому понятию публичной сферы [public
domain]. В наших FAQ [часто задаваемых
вопросах] о публичной сфере мы, группа авторов
из Амстердама, определили публичную сферу
следующим образом в 1999 году:
«Публичная сфера традиционно понимается как
общедоступное пространство разделяемых идей и
памяти, а также физических манифестаций,
которые воплощают их. Монумент как физическое
воплощение памяти и истории сообщества
наиболее ясно воплощает этот принцип.
Доступность, символизация, отчуждение и
апроприация публичного монумента -
традиционные формы, в которых ведется
политическая борьба за коллективную память и
историю.»
[источник: FAQ about the Public Domain - a.o. at:
http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/
nettime-l-9901/msg00063.html ]
Американский писатель и политический стратег
Давид Больер [David Bollier], однако, указывает,
что более широкую концепцию публичной сферы
нужно отличать от концепции публичного
достояния. [2] Публичная сфера в его понимании
предполагает пассивное открытое пространство,
которое может разделяться любым и всеми, и,
таким образом, принадлежать всем и никому в то
же самое время. Публичная сфера подразумевает
проблему ответственности. Так как там не
существует ни границы, ни какой бы то ни было
собственности, ни частного, ни коллективного,
никто не чувствует себя ответственным за ресурсы,
которые находятся в публичной сфере. [3]
Концепция общественного достояния, напротив,
предполагает границы. Общественное достояние
относится к ресурсам, общественной земле,
общественным средствам производства, знанию
или информации, которые разделяются между
членами более-менее хорошо определенного
сообщества. Здесь существует собственность, но
собственник – коллектив, а не индивид. Более
того, правила того, как и среди кого эти
общественные ресурсы распределяются
необязательно остаются неизменными. В случае
цифрового общественного достояния, понятие
общественного достояния больше не относится
исключительно к территории, т.е. географически
определенному сообществу, но может также
относиться к группе людей, разделяющих общие
интересы или идеи, которые потенциально могут
распространяться по всему миру. Здесь мы видим,
где возникает гибридность: общественное
достояние расширяется от комплекса разделяемых
физических ресурсов (общественная земля) до
нематериальной сферы (идеи, знания,
информация), и, во-вторых, общественное
достояние расширяется от чего-то, что
обязательно географически определено (пешие
дороги) до чего-то, что разделяется между
географически удаленными местами, потому что
оно электронно медиировано через цифровые
сети. Но во всех этих случаях общественное
достояние не обязательно «свободно».
Существуют правила и механизмы доступа и
ограничения на его использование, которые
определяются общими ценностями сообщества,
разделяющего эти ресурсы.
Я бы не хотел представлять ограниченную картину
или прокламировать ностальгию по
традиционному (деревенскому) сообществу.
Сообщества с общественным достоянием могут
принимать различные формы: неформальные,
проницаемые, профессиональные, локальные,
рассредоточенные, формальные или
анархические. Но они имеют ряд общих
характеристик, которые отводят от них понятие
«бесплатно-для-всех», столь часто присваиваемое
ранним стадиям развития Интернет как
публичного медиума. Наиболее важно, что
концепция коллективного владения предполагает
ответственность, а выживание общих ресурсов
зависит от желания людей отвечать за них. Часто
общественное достояние становится жизненным
благодаря его связи с реальными нуждами и
вопросами, а не вследствие его отделенности от
этих прозаичных представлений – это
конкретизирует дальнейшее радикальное отличие
этой концепции от кибер-утопичных дискурсов
конца 90-х. Это по-новому акцентирует
необходимость исследовать условия
гибридизации, которая охватывает цифровое
общественное достояние и которая требует
специфических стратегий для того, чтобы сделать
его жизнеспособным.
Гибридные медиа
Первая немедленная стратегия включить эту новую
область гибридности в дискуссию – это больше не
расценивать сетевые медиа отдельно от
остального медиа-ландшафта. С одной стороны,
широко обсуждалась техническая конвергенция
медиа, где средства производства традиционных
медиа становятся цифровыми, таким образом,
промоутируя взаимосвязи между разделенными в
прошлом медиа-формами, дисциплинами и
областями применения. Но еще более важен и
интересен следующий парадокс: в то время как
избыток новых медиа-форм появился из-за
дигитализации различных медиа-форм и потому
что в ходе этого развития инструменты медиа-
производства стали значительно просты и дешевы,
эта тенденция к демократизации медиа на уровне
технической реализации ни коим образом не
повредила доминирующей позиции мэйнстрим-
медиа в определении публичного дискурса. Где
же тогда мечта о демократичном медиа-
пространстве?
На самом деле невероятная концентрация средств
медиа-производства, компаний и линий
дистрибуции в руках только нескольких
корпоративных медиа-гигантов преследуют
дигитализацию медиа так же, как и их
предполагаемую демократизацию. Это движение в
сторону интеграции (горизонтальной и
вертикальной, т.е. не только производства, но
также и дистрибуции медиа-продуктов) серьезно
сократила разнообразие ландшафта мэйнстрим-
медиа. Стандартизация форматов и
одностороннее программирование выбора
экспортируются по всему миру в движении к
унификации, скорее, чем к диверсификации.
Альтернативные медиа были оставлены позади в
маргинальной позиции, не способные
коммуницировать с более широкой аудиторией за
пределами собственного круга, часто смещенные в
гетто Интернет.
Контр-стратегия – это гибридизация самих медиа.
Там, где корпоративный мэйнстрим приветствует
гибридизацию как способ расширить свою долю
на рынке, «другие» медиа пытаются расширить
свое коммуникационное пространство. Именно
здесь могут быть почерпнуты уроки подобных
суверенных экспериментов, которые были
проведены на протяжении девяностых
художественными и субверсивеыми медиа-
произодителями: Успешный медиатор должен
быть независимой платформой, должен быть
способен переключаться между медиа-формами,
взаимосвязывать и переоборудовать все
платформы, чтобы найти новые
коммуникационные пространства. В этом
контексте мы видим, где эксперименты с сетевым
вещанием, кросс-связями с радио, телевидением,
кабелем и даже спутником становятся чрезвычайно
ценными – они становятся средствами
преодоления маргинализированного гетто редко
посещаемых веб-сайтов и незаметных живых веб-
трансляций.
Все эти кросс-связи могут создать суверенное
медиа-пространство, которое не определяется
функциональными интересами (властью, деньгами,
долей рынка), ориентируются непосредственно на
установление нового рода публичного
коммуникационного пространства, более не
эксклюзивной сферы профессиональной медиа-
элиты…
Гибридное пространство
Вторая стратегия – это гибридизация разных
пространственных логик. Общественное
достояние сегодня существует преимущественно в
сфере медиирования, которая благодаря
спутникам и сетевым связям стала потенциально
глобальной. В то время как места до сих пор
имеют большое значение, хотя бы потому, что
более 80 процентов населения земного шара не
подключено к сфере электронных медиа и, в
частности, цифровому медиированию, социальный
дискурс и коммуникация и, таким образом, сам
абсолютный язык власти формируется в сфере
электронного медиирования. Стало общим местом
констатация того, что в войне центры
электронного медиирования и коммуникации,
передатчики, стали целями первостепенной
важности атакующих сил.
Но это электронное медиирование имеет смысл,
если в конце оно переключается на материальную
реальность. Если мы хотим сделать новую сферу
власти демократически подотчетной и добиться
открытых пространств для свободной публичной
коммуникации, нам нужно думать о моделях,
которые могут обратиться к гибридности этих
пространств: связи и разрывы между местами, в
которых живут люди, и сферой электронного
медиирования, которая все больше определяет
условия, в которых они живут в этих местах.
Не существует простых формул для описания того,
как эти разные сферы на самом деле относятся
друг к другу, связи многообразны и часто
специфичны для конкретного места, сложность
слишком велика для того, чтобы осваивать их по
принципу «случай за случаем». Поэтому мы
должны подходить к ним с обязательно
незаконченными моделями и описаниями. Что мы
можем сделать, так это исследовать
пространственную логику и социальную динамику
физического публичного пространства, а также
медиированных публичных коммуникационных
пространств. Вместо их теоретизации, гораздо
продуктивнее было бы начать работать с ними
путем создания специальных условий для
переживания различий и связей между этими
двумя пространственными логиками. Это
движение от дискурса к опыту однозначно
приводит нас в область искусства.
Урбанистическая интервенция
дебаты и Кредиты/debates&Credits – голландско-
российский арт/медиа проект
Там, где изначально социальными
пространствами являлись городская площадь,
парки, залы ассамблей, места демонстраций и
массовых собраний, - места, где формировался
социальный дискурс, теперь электронные медиа
определяют новый масштаб человеческих
действий и социальных отношений. Здесь нет
ничего нового. Это процесс, продолжающийся с
момента внедрения телекоммуникаций, радио и
телевидения, а вслед за ними многих новых
коммуникационных технологий. Однако остается
ощущение, что все равно тот, кто контролирует
городское пространство, держит в своих руках
реальную власть. Форма контроля над публичным
урбанистическим пространством отражает то же
присутствие власти, которое наблюдается в
медиасреде, возможно, как знак утраченного
«реального», как знать?
Желание принять участие в формировании
публичного дискурса подразумевает
необходимость не только гибридного присутствия
в медиасреде за пределами гетто Интернет, но
также, чтобы это присутствие манифестировалось
и на улицах. Именно во взаимодействии этих двух
пространств, урбанистического и
медиированного, социальные дискурс и
коммуникация обретают форму. Если эти
пространства должны быть открыты для
альтернативных аргументов, идей и участников, то
для этого требуются гибридные формы
интервенции.
Вместе с Татьяной Горючевой мы
инициировали и реализовали голландско-
российский проект «дебаты и Кредиты.
Медиаискусство в публичной сфере». По 4
художника/арт-группы из Голландии и России
были приглашены создать художественные
медиапроекты в форме интервенций в публичное
городское пространство. Проект был осуществлен
осенью 2002 года последовательно в Амстердаме,
Екатеринбурге и Москве.
Проект столкнулся с очевидным кризисом
урбанистического публичного пространства в
Москве. Город совершенно переполнен
коммерческой рекламой – новой формой
пропаганды. Передвигаясь по городу,
сталкиваешься с вездесущностью и агрессивностью
этой новой формы урбанистической визуальности.
Реклама разрослась до сверхмерных масштабов.
Билборды трансформируются в гигантские
кинетические скульптуры, оригинальный
исторический вид города растворяется в море
рекламных посланий, соревнующихся за
внимание. Иногда целые дома превращаются в
корпоративные рекламоносители, в то время как
повсеместно исторические здания и места
перевоплощаются в монументы для мэйнстримных
брэндов пива или автопроизводителя.
Кажется, что пространство бесконтрольно
скатывается в анархию… Но когда мы взялись за
поиски возможностей для реализации наших
художественных проектов в публичном
пространстве, мы обнаружили, что эта видимая
анархия на самом деле жестко регулируется.
Настолько, что даже ряд проектов,
запланированных в Москве, пришлось осуществить
без разрешения, некоторые из них были
видоизменены, а некоторые не состоялись вовсе.
В публичном контексте проект выглядел как
намеренная комбинация физического и медиа
пространств. Художники также использовали
широкий спектр различных интервенций, которые
играют с этим двойственным характером
социального пространства, от маломасштабного
уличного перформанса (Олег Киреев), снятого и
показанного по телевидению, до зрелищной
акции с мобильной видеопроекцией в
характерных местах Амстердама и Москвы
(«Мобильное видеограффити» группы «Машина» и
Лео ван Мюнстера); художественные работы,
созданные специально для ТВ (PARK 4DTV), а в
Екатеринбурге еще и показанные на электронном
экране в центре города; проект для публичной
транспортной зоны и мозаика на основе видео и
фотодокументации (Арно Кунен); настенная
роспись (группа «Археоптерикс»);
видеоинсталляция в окнах публичного здания на
тему 9/11 (Галина Мызникова и Сергей Проворов);
интернет-парламент на тему легальности/
нелегальности (Олег Киреев); арт-постер-
кампания (Арсений Сергеев).
Эти интервенции, часто поэтические,
временами конфронтационные, иногда интимные
и персональные, иногда зрелищные могут быть
рассмотрены как попытки разработки моделей для
открытия урбанистического и медиа пространств
для других форм социальной коммуникации,
которые отличны от мэйнстримной нормы.
Отчуждение этих пространств путем внедрения
инородных элементов в мэйнстримный публичный
контекст разрушает их норму и может (временно)
открыть их для разнообразия альтернативных
дискурсов, культурных форм и идей.
Гибридные дискурсы
Наконец, важно отметить, что предмет народного
достояния появился в различных дисциплинарных
контекстах. Это предполагает, что адоптация этой
концепции всеми этими различными
дисциплинами способствует гибридизации разных
дисциплинарных дискурсов. Помимо концепции
цифрового общественного достояния,
предложенной коллективом Raqs и центром Sarai
из Дели, появились две другие сильные
инициативы, которые используют понятие
общественного достояния в борьбе за более
открытые и демократичные знание и
информационное пространство.
Информационное общественное достояние [The
Information Commons]:
http://www.info-commons.org
Информационное общественное достояние –
проект, который был инициирован Американской
библиотечной ассоциацией, усматривающей
большую угрозу за коммодификацией цифрового
информационного пространства и ужесточением
правил регулирования прав на копирование
(копирайт) и Закона об интеллектуальной
собственности. В этом они видят главное
препятствие своему намерению сделать как можно
больше информационных ресурсов и знания
доступными широкой публике любыми
возможными способами. Там, где технически
цифровые медиа имеют огромный потенциал для
этой миссии, новые правовые инициативы -
наиболее примечателен из них Акт права на
копирование цифрового миллениума [the Digital
Millennium Copyright Act (DMCA)] - увеличивают
ограничения для их возможности исполнить свою
миссию.
Творческое общественное достояние [The Creative
Commons]:
http://creativecommons.org
Аналогично проект Творческое общественное
достояние реагирует на ужесточение ограничений,
устанавливаемых правовыми системами, такими
как DMCA, на цифровой мир. Но этот проект
появился со стороны Закона об информации.
Руководимый преимущественно специалистами в
области права Лоуренсом Лессигом [Lawrence
Lessig] и Джеймсом Бойлем [James Boyle],
Творческое общественное достояние предлагает
ряд лицензионных систем, которые позволяют
людям реализовывать свои интеллектуальные
продукты с различными степенями свободы.
Лессиг, Бойл и многие другие боятся, что как
никогда жесткий Закон об интеллектуальной
собственности душит культурное и
интеллектуальное развитие, и, в конце концов, он
убьет творческий и инновационный потенциал
цифрового сетевого сообщества [networking].
Культурное развитие всегда внутренне полагалось
на обмен новыми идеями и инновациями, и
должно рассматриваться по сути как процесс
наращивания. Новые формы и культурные
концепции не просто падают с неба как deus ex
machina, они создаются через диалог,
состязательность и разногласие. Вопрос
«владения» здесь в любом случае под сомнением,
а во многих культурах он на самом деле не
существует вообще, когда речь идет о культурных
концепциях, формах и идеях.
Вне риторики об инновации важно понимать, что
демократическое общество и демократическая
модель социальной коммуникации не могут
существовать без открытого доступа к
информации, знанию и идеям. Более того,
гражданам требуется возможность получать
доступ к разнообразию коммуникационных
пространств, которые я здесь описал: физическое,
урбанистическое и медиированное. Эти ресурсы и
пространства не естественная данность, но
пассивные сущности, то, что разделяется
сообществом людей, которые достаточно
заботятся о них для поддержания их
существования через использование.
_________
Примечания:
1) «Мы» нужно понимать ссылку на ряд
теоретиков, которые обращают внимание на это
концептуальное изменение. Совсем недавно
Наоми Кляйн критиковала Всемирный социальный
форум за упущение из виду этого важного
политического различия (Naomi Klein, The
Hijacking of the WSF, Jan. 20, 2003)
2) См. веб-сайт Дэвида Бойлера для более
подробной информации: http://www.bollier.org/
3) Здесь мы сталкиваемся с дальнейшим
усугублением проблемы, заключающейся в том,
что за пределами англосаксонской культуры
понятие «публичная сфера» и его переводы
означают разные вещи. Так, например, концепция
«la domaine publique» во французском четко
отсылает к сфере государства. Общественное
достояние [the commons] как термин остается
трудно переводимым, так как изначально был
связан со специфической концепцией
общественной земли, но, по крайней мере, это не
имеет ошибочных межъязыковых интерпретаций.
* Примечание переводчика: Русский перевод
значений слова commons и его однокоренных
фактически соответствует приведенным в тексте
толкованиям словаря Вебстера (Новый Большой
англо-русский словарь в 3-х т. Под общ. рук.
Ю.Д.Апресяна и Э.М.Медниковой. – 4-е изд. М.,
1999). Тем не менее концепция commons, которую
развивает автор относительно контекста
цифровой, или шире – медиа, культуры, наиболее
адекватно, на мой взгляд, может быть передана
словосочетанием «общественное достояние».
Перевод Татьяны Горючевой
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|